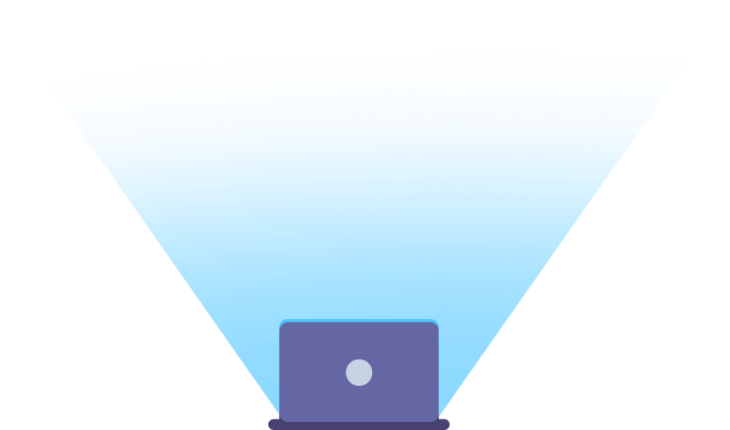это быстро и бесплатно

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
ID (номер) заказа
1557958
Ознакомительный фрагмент работы:
Булгаков Михаил Афанасьевич
Пропавший глаз
Итак, прошел год. Ровно год, как я подъехал к этому самому дому. И так же, как сейчас, за окнами висела пелена дождя, и так же тоскливо никли желтые последние листья на березах. Ничто не изменилось, казалось бы, вокруг. Но я сам сильно изменился. Буду же в полном одиночестве праздновать вечер воспоминаний...
И по скрипящему полу я прошел в свою спальню и поглядел в зеркало. Да, разница велика. Год назад в зеркале, вынутом из чемодана, отразилось бритое лицо. Косой пробор украшал тогда двадцатитрехлетнюю голову. Ныне пробор исчез. Волосы были закинуты назад без особых претензий. Пробором никого не прельстишь в тридцати верстах от железного пути. То же и относительно бритья. Над верхней губой прочно утвердилась полоска, похожая на жесткую пожелтевшую зубную щеточку, щеки стали как терка, так что приятно, если зачешется предплечье во время работы, почесать его щекой. Всегда так бывает, еже ли бриться не три раза в неделю, а только один раз. Вот читал я как-то где-то... где – забыл... об одном англичанине, попавшем на необитаемый остров. Интересный был англичанин. Досиделся он на острове даже до галлюцинаций. И когда подошёл корабль к острову и лодка выбросила людей-спасителей, он – отшельник – встретил их револьверной стрельбой, приняв за мираж, обман пустого водяного поля. Но он был выбрит. Брился каждый день на необитаемом острове. Помнится, громаднейшее уважение вызвал во мне этот гордый сын Британии. И когда я ехал сюда, в чемодане у меня лежала и безопасная «Жиллет», а к ней дюжина клинков, и опасная, и кисточка. И твердо решил я, что буду бриться через день, потому что у меня здесь ничем не хуже необитаемого острова. Но вот однажды, это было в светлом апреле, я разложил все эти английские прелести в косом золотистом луче и только что отделал до глянца правую щёку, как ворвался, топоча, как лошадь, Егорыч в рваных сапожищах и доложил, что роды происходят в кустах у Заповедника над речушкой. Помнится, я полотенцем вытер левую щеку и выметнулся вместе с Егорычем. И бежали мы втроем к речке, мутной и вздувшейся среди оголенных куп лозняка, – акушерка с торсионным пинцетом, и свертком марли, и банкой с йодом, я с дикими, выпученными глазами, а сзади – Егорыч. Он через каждые пять шагов присаживался на землю и с проклятиями рвал левый сапог: у него отскочила подметка. Ветер летел нам навстречу, сладостный и дикий ветер русской весны, у акушерки Пелагеи Ивановны выскочил гребешок из головы, узел волос растрепался и хлопал ее по плечу.
– Какого ты черта пропиваешь все деньги? – бормотал я на лету Егорычу. – Это свинство. Больничный сторож, а ходишь, как босяк.
– Какие ж это деньги, – злобно огрызался Егорыч, – за двадцать целковых в месяц муку-мученскую принимать... Ах ты, проклятая! – Он бил ногой в землю, как яростный рысак. – Деньги... тут не то что сапоги, а пить-есть не на что...
– Пить-то тебе самое главное, – сипел я, задыхаясь, – оттого и шляешься оборванцем...
У гнилого мостика послышался жалобный лёгкий крик, он пролетел над стремительным половодьем и угас. Мы подбежали и увидели растрепанную корчившуюся женщину. Платок с неё свалился, и волосы прилипли к потному лбу, она в мучении заводила глаза и ногтями рвала на себе тулуп. Яркая кровь заляпала первую жиденькую бледную зеленую травку, проступившую на жирной, пропитанной водой земле.
– Не дошла, не дошла, – торопливо говорила Пелагея Ивановна и сама, простоволосая, похожая на ведьму, разматывала сверток.
И вот тут, слушая веселый рев воды, рвущейся через потемневшие бревенчатые устои моста, мы с Пелагеей Ивановной приняли младенца мужского пола. Живого приняли и мать спасли. Потом две сиделки и Егорыч, босой на левую ногу, освободившись, наконец, от ненавистной истлевшей подметки, перенесли родильницу в больницу на носилках.
Когда она, уже утихшая и бледная, лежала, укрытая простынями, когда младенец поместился в люльке рядом, и всё пришло в порядок, я спросил у нее:
– Ты что же это, мать, лучшего места не нашла рожать, как на мосту? Почему же на лошади не приехала?
Она ответила:
– Свёкор лошади не дал. Пять верст, говорит, всего, дойдешь. Баба ты здоровая. Нечего лошадь зря гонять.
– Дурак твой свекор и свинья, – отозвался я.
– Ах, до чего темный народ, – жалостливо добавила Пелагея Ивановна, а потом чего-то хихикнула.
Я поймал ее взгляд, он упирался в мою левую щеку.
Я вышел и в родильной комнате заглянул в зеркало. Зеркало это показало то, что обычно показывало: перекошенную физиономию явно дегенеративного типа с подбитым как бы правым глазом. Но, и тут уже зеркало не было виновато, на правой щеке дегенерата можно было плясать, как на паркете, а на левой тянулась густая рыжеватая поросль. Разделом служил подбородок. Мне вспомнилась книга в желтом переплете с надписью «Сахалин». Там были фотографии разных мужчин.
«Убийство, взлом, окровавленный топор, – подумал я, – десять лет... Какая все-таки оригинальная жизнь у меня на необитаемом острове. Нужно идти добриться...»
Я, вдыхая апрельский дух, приносимый с черных полей, слушал вороний грохот с верхушек берез, щурился от первого солнца, шел через двор добриваться. Это было около трех часов дня. А добрился я в девять вечера. Никогда, сколько я заметил, такие неожиданности в Мурьеве, вроде родов в кустах, не приходят в одиночку. Лишь только я взялся за скобку двери на своем крыльце, как лошадиная морда показалась в воротах, телегу, облепленную грязью, сильно тряхнуло. Правила баба и тонким голосом кричала:
– Н-но, лешай!
И с крыльца я услышал, как в ворохе тряпья хныкал мальчишка.
Конечно, у него оказалась переломленная нога, и вот два часа мы с фельдшером возились, накладывая гипсовую повязку на мальчишку, который выл подряд два часа. Потом обедать нужно было, потом лень было бриться, хотелось что-нибудь почитать, а там приползли сумерки, затянуло дали, и я, скорбно морщась, добрился. Но так как зубчатый «Жиллет» пролежал позабытым в мыльной воде – на нем навеки осталась ржавенькая полосочка, как память о весенних родах у моста,
Да... бриться три раза в неделю было ни к чему. Порою нас заносило вовсе снегом, выла несусветная метель, мы по два дня сидели в Муравьевской больнице, не посылали даже в Вознесенск за девять верст за газетами, и долгими вечерами я мерил и мерил свой кабинет и жадно хотел газет, так жадно, как в детстве жаждал куперовского «Следопыта». Но всё же английские замашки не потухли вовсе на Муравьевском необитаемом острове, и время от времени я вынимал из черного футлярчика блестящую игрушку и вяло брился, выходил гладкий и чистый, как гордый островитянин. Жаль лишь, что некому было полюбоваться на меня. Позвольте... да... ведь был и еще случай, когда, помнится, вынул бритву, и только что Аксинья принесла в кабинет выщербленную кружку с кипятком, как в дверь грозно застучали и вызвали меня. И мы с Пелагеей Ивановной уехали в страшную даль, закутанные в бараньи тулупы, пронеслись, как черный призрак, состоящий из коней, кучера и нас, сквозь взбесившийся белый океан. Вьюга свистела, как ведьма, выла, плевалась, хохотала, все к черту исчезло, и я испытывал знакомое похолодание где-то в области солнечного сплетения при мысли, что собьемся мы с пути в этой сатанинской вертящейся мгле и пропадем за ночь все: и Пелагея Ивановна, и кучер, и лошади, и я. Еще, помню, возникла у меня дурацкая мысль о том, что, когда мы будем замерзать и вот нас наполовину занесет снегом, я и акушерке, и себе, и кучеру впрысну морфий... Зачем?.. А так, чтобы не мучиться... «Замерзнешь ты, лекарь, и без морфия превосходнейшим образом, – помнится, отвечал мне сухой и здоровый голос, – ништо тебе...» У-гу-гу!.. Ха-ссс!.. – свистала ведьма, и нас мотало, мотало в санях... Ну, напечатают там, в столичной газете, на задней странице, что вот, мол, так и так, погибли при исполнении служебных обязанностей лекарь такой-то, а равно Пелагея Ивановна с кучером и парою коней. Мир их праху в снежном море. Тьфу... Что в голову лезет, когда тебя так называемый долг службы несет и несет...
Мы и не погибли, не заблудились, а приехали в село Грищево, где я стал производить второй поворот за ножку в моей жизни. Родильница была жена деревенского учителя, и пока мы по локоть в крови и по глаза в поту при свете лампы бились с Пелагеей Ивановной над поворотом, слышно было, как за дощатой дверью стонал и мотался по черной половине избы муж. Под стоны родильницы и под его неумолчные всхлипывания я ручку младенцу, по секрету скажу, сломал. Младенчика получили мы мертвого. Ах, как у меня тек пот по спине! Мгновенно мне пришло в голову, что явится кто-то грозный, черный и огромный, ворвется в избу, скажет каменным голосом: «Ага. Взять у него диплом!»
Я, угасая, глядел на желтое мертвое тельце и на восковую мать, лежавшую недвижно, в забытьи от хлороформа. В форточку била струя метели, мы открыли ее на минуту, чтобы разредить удушающий запах хлороформа, и струя эта превращалась в клуб пара. Потом я захлопнул форточку и снова вперил взор в мотающуюся беспомощно ручку в руках акушерки. Ах, не могу я выразить того отчаяния, в котором я возвращался домой один, потому что Пелагею Ивановну я оставил ухаживать за матерью. Меня швыряло в санях в поредевшей метели, мрачные леса смотрели укоризненно, безнадежно, отчаянно. Я чувствовал себя побежденным, разбитым, задавленным жестокой судьбой. Она меня бросила в эту глушь и заставила бороться одного, без всякой поддержки и указаний. Какие неимоверные трудности мне приходится переживать! Ко мне могут привезти какой угодно каверзный или сложный случай, чаще всего хирургический, и я должен стать к нему лицом, своим небритым лицом, и победить его. А если не победишь, вот и мучайся, как сейчас, когда валяет тебя по ухабам, а сзади остался трупик младенца и мамаша. Завтра, лишь утихнет метель, Пелагея Ивановна привезет ее ко мне в больницу, и очень большой вопрос – удастся ли мне отстоять ее? Да и как мне отстоять ее? Как понимать это величественное слово? В сущности, действую я наобум, ничего не знаю. Ну, до сих пор везло, сходили с рук благополучно изумительные вещи, а сегодня не свезло. Ах, в сердце щемит от одиночества, от холода, от того, что никого нет кругом. А может, я еще и преступление совершил – ручку-то. Поехать куда-нибудь, повалиться кому-нибудь в ноги, сказать, что вот, мол, так и так, я, лекарь такой-то, ручку младенцу переломил. Берите у меня диплом, недостоин я его, дорогие коллеги, посылайте меня на Сахалин. Фу, неврастения!
Я завалился на дно саней, съежился, чтобы холод не жрал меня так страшно, и самому себе казался жалкой собачонкой, псом, бездомным и неумелым.
Долго, долго ехали мы, пока не сверкнул маленький, но такой радостный, вечно родной фонарь у ворот больницы. Он мигал, таял, вспыхивал и опять пропадал и манил к себе. И при взгляде на него несколько полегчало в одинокой душе, и когда фонарь уже прочно утвердился перед моими глазами, когда он рос и приближался, когда стены больницы превратились из черных в беловатые, я, въезжая в ворота, уже говорил самому себе так:
«Вздор – ручка. Никакого значения не имеет. Ты сломал ее уже мертвому младенцу. Не о ручке нужно думать, а о том, что мать жива».
Фонарь меня подбодрил, знакомое крыльцо тоже, но все же уже внутри дома, поднимаясь к себе в кабинет, ощущая тепло от печки, предвкушая сон, избавитель от всех мучений, бормотал так:
«Так-то оно так, но все-таки страшно и одиноко. Очень одиноко».
Бритва лежала на столе, а рядом стояла кружка с простывшим кипятком. Я с презрением швырнул бритву в ящик. Очень, очень мне нужно бриться...
И вот целый год. Пока он тянулся, он казался многоликим, многообразным, сложным и страшным, но теперь я вижу, что он пролетел как ураган. Но вот в зеркале я смотрю и вижу след, оставленный им на лице. Глаза стали строже и беспокойнее, а рот увереннее и мужественнее, складка на переносице останется на всю жизнь, как останутся мои воспоминания. Я в зеркале их вижу, они бегут буйной чередой. Позвольте, когда еще я трясся при мысли о своем дипломе, о том, что какой-то фантастический суд будет меня судить и грозные судьи будут спрашивать:
«А где солдатская челюсть? Ответь, злодей, окончивший университет!»
Как не помнить! Дело было в том, что хотя на свете и существует фельдшер Демьян Лукич, который рвет зубы так же ловко, как плотник ржавые гвозди из старых шалевок, но такт и чувство собственного достоинства подсказали мне на первых же шагах моих в Мурьинской больнице, что зубы нужно выучиться рвать и самому. Демьян Лукич может и отлучиться или заболеть, а акушерки у нас все могут, кроме одного: зубов они, извините, не рвут, не их дело.
Стало быть... я помню прекрасно румяную, но исстрадавшуюся физиономию передо мной на табурете. Это был солдат, вернувшийся в числе прочих с развалившегося фронта после революции. Отлично помню и здоровеннейший, прочно засевший в челюсти крепкий зуб с дуплом. Щурясь с мудрым выражением и озабоченно покрякивая, я наложил щипцы на зуб, причем, однако, мне отчетливо вспомнился всем известный рассказ Чехова о том, как дьячку рвали зуб. И тут мне впервые показалось, что рассказ этот нисколько не смешон. Во рту громко хрустнуло, и солдат коротко взвыл:
– Ого-о!
После этого под рукой сопротивление прекратилось, и щипцы выскочили изо рта с зажатым окровавленным и белым предметом в них. Тут у меня ёкнуло сердце, потому что предмет этот превышал по объему всякий зуб, хотя бы даже и солдатский коренной. Вначале я ничего не понял, но потом чуть не зарыдал: в щипцах, правда, торчал и зуб с длиннейшими корнями, но на зубе висел огромный кусок ярко-белой неровной кости.
«Я сломал ему челюсть...» – подумал я, и ноги мои подкосились. Благословляя судьбу за то, что ни фельдшера, ни акушерок нет возле меня, я воровским движением завернул плод моей лихой работы в марлю и спрятал в карман. Солдат качался на табурете, вцепившись одной рукой в ножку акушерского кресла, а другою – в ножку табурета, и выпученными, совершенно ошалевшими глазами смотрел на меня. Я растерянно ткнул ему стакан с раствором марганцевокислого калия и велел:
– Полощи.
Это был глупый поступок. Он набрал в рот раствор, а когда выпустил его в чашку, тот вытек, смешавшись с алою солдатской кровью, по дороге превращаясь в густую жидкость невиданного цвета. Затем кровь хлынула изо рта солдата так, что я замер. Если б я полоснул беднягу бритвой по горлу, вряд ли она текла бы сильнее. Отставив стакан с калием, я набрасывался на солдата с комками марли и забивал зияющую в челюсти дыру. Марля мгновенно становилась алой, и, вынимая ее, я с ужасом видел, что в дыру эту можно свободно поместить больших размеров сливу ренклод.
«Отделал я солдата на славу», – отчаянно думал я и таскал длинные полосы марли из банки. Наконец кровь утихла, и я вымазал яму в челюсти йодом.
– Часа три не ешь ничего, – дрожащим голосом сказал я своему пациенту.
– Покорнейше вас благодарю, – отозвался солдат, с некоторым изумлением глядя в чашку, полную его крови.
– Ты, дружок, – жалким голосом сказал я, – ты вот чего... ты заезжай завтра или послезавтра показаться мне. Мне... видишь ли... нужно будет посмотреть... У тебя рядом еще зуб подозрительный... хорошо?
– Благодарим покорнейше, – ответил солдат хмуро и удалился, держась за щеку, а я бросился в приёмную и сидел там некоторое время, охватив голову руками и качаясь, как от зубной у самого боли. Раз пять я вытаскивал из кармана твёрдый окровавленный ком и опять прятал его.
Неделю жил я как в тумане, исхудал и захирел.
«У солдата будет гангрена, заражение крови... Ах ты, черт возьми! Зачем я сунулся к нему со щипцами?»
Нелепые картины рисовались мне. Вот солдата начинает трясти. Сперва, он ходит, рассказывает про Керенского и фронт, потом становится все тише. Ему уже не до Керенского. Солдат лежит на ситцевой подушке и бредит. У него – 40°. Вся деревня навещает солдата. А затем солдат лежит на столе под образами с заострившимся носом.
В деревне начинаются пересуды.
«С чего бы это?»
«Дохтур зуб ему вытаскал...»
«Вон оно што!»
Дальше – больше. Следствие. Приезжает суровый человек:
«Вы рвали зуб солдату?..»
«Да... я».
Солдата выкапывают. Суд. Позор. Я – причина смерти. И вот я уже не врач, а несчастный, выброшенный за борт человек, вернее, бывший человек.
Солдат не показывался, я тосковал, ком ржавел и высыхал в письменном столе. За жалованием персоналу нужно было ехать через неделю в уездный город. Я уехал через пять дней и прежде всего, пошел к врачу уездной больницы. Этот человек с прокуренной бороденкой двадцать пять лет работал в больнице. Виды он видал. Я сидел вечером у него в кабинете, уныло пил чай с лимоном, ковыряя скатерть, наконец не вытерпел и обиняками повел туманную фальшивую речь: что вот, мол... бывают ли такие случаи... если кто-нибудь рвет зуб... и челюсть обломает... ведь гангрена может получиться, не правда ли?.. Знаете, кусок... я читал...
Тот слушал, слушал, уставив на меня свои вылинявшие глазки под косматыми бровями, и вдруг сказал так:
– Это вы ему лунку выломали... Здорово будете зубы рвать... Бросайте чай, идём, водки выпьем перед ужином.
И тотчас и навсегда ушел мой мучитель солдат из головы.
Ах, зеркало воспоминаний. Прошел год. Как смешно мне вспоминать про эту лунку! Я, правда, никогда не буду рвать зубы так, как Демьян Лукич. Еще бы! Он каждый день рвет штук по пяти, а я раз в две недели по одному. Но, всё же я рву так, как многие хотели бы рвать. И лунок не ломаю, а если бы и сломал, не испугался бы.
Да что зубы. Чего только я не перевидал и не сделал за этот неповторяемый год.
Вечер тёк в комнату. Уже горела лампа, и я, плавая в горьком табачном дыму, подводил итог. Сердце мое переполнялось гордостью. Я делал две ампутации бедра, а пальцев не считаю. А вычистки. Вот у меня записано восемнадцать раз. А грыжа. А трахеотомия. Делал, и вышло удачно. Сколько гигантских гнойников я вскрыл. А повязки при переломах. Гипсовые и крахмальные. Вывихи вправлял. Интубации. Роды. Приезжайте, с какими хотите. Кесарева сечения делать не стану, это верно. Можно в город отправить. Но щипцы, повороты – сколько хотите.
Помню государственный последний экзамен по судебной медицине. Профессор сказал:
– Расскажите о ранах в упор.
Я развязно стал рассказывать, и рассказывал долго, и в зрительной памяти проплывала страница толстейшего учебника. Наконец я выдохся, профессор поглядел на меня брезгливо и сказал скрипуче:
– Ничего подобного тому, что вы рассказали, при ранах в упор не бывает. Сколько у вас пятерок?
– Пятнадцать, – ответил я.
Он поставил против моей фамилии тройку, и я вышел в тумане и позоре вон...
Вышел, потом вскоре поехал в Мурьево, и вот я здесь один. Черт его знает, что бывает при ранах в упор, но когда здесь передо мной на операционном столе лежал человек и пузыристая пена, розовая от крови, вскакивала у него на губах, разве я потерялся? Нет, хотя вся грудь у него в упор была разнесена волчьей дробью, и было видно легкое, и мясо груди висело клоками, разве я потерялся? И через полтора месяца он ушёл у меня из больницы живой. В университете я не удостоился ни разу подержать в руках акушерские щипцы, а здесь – правда, дрожа – наложил их в одну минуту. Не скрою того, что младенца я получил странного: половина его головы была раздувшаяся, сине-багровая, безглазая. Я похолодел. Смутно выслушал утешающие слова Пелагеи Ивановны:
– Ничего, доктор, это вы ему на глаз наложили одну ложку.
Я трясся два дня, но через два дня голова пришла в норму.
Какие я раны зашивал. Какие видел гнойные плевриты и взламывал при них ребра, какие пневмонии, тифы, раки, сифилис, грыжи (и вправлял), геморрои, саркомы.
Вдохновенно я развернул амбулаторную книгу и час считал. И сосчитал. За год, вот до этого вечернего часа, я принял пятнадцать тысяч шестьсот тринадцать больных: Стационарных у меня было двести, а умерло только шесть.
Я закрыл книгу и поплелся спать. Я, юбиляр двадцати четырех лет, лежал в постели и, засыпая, думал о том, что мой опыт теперь громаден. Чего мне бояться? Ничего. Я таскал горох из ушей мальчишек, я резал, резал, резал... Рука моя мужественна, не дрожит. Я видел всякие каверзы и научился понимать такие бабьи речи, которых никто не поймет. Я в них разбираюсь, как Шерлок Холмс в таинственных документах... Сон все ближе...
– Я, – пробурчал я, засыпая, – я положительно не представляю себе, чтобы мне привезли случай, который бы мог меня поставить в тупик... может быть, там, в столице, и скажут, что это фельдшеризм... пусть... им хорошо... в клиниках, в университетах... в рентгеновских кабинетах... я же здесь... все... и крестьяне не могут жить без меня... Как я раньше дрожал при стуке в двери, как корчился мысленно от страха... А теперь...
__________
– Когда же это случилось?
– С неделю, батюшка, с неделю, милый... Выперло...
И баба захныкала.
Смотрело серенькое сентябрьское утро первого дня моего второго года. Вчера я вечером гордился и хвастался, засыпая, а сегодня стоял в халате и растерянно вглядывался...
Годовалого мальчишку она держала на руках, как полено, и у мальчишки этого левого глаза не было. Вместо глаза из растянутых, истонченных век выпирал шар желтого цвета величиной с небольшое яблоко. Мальчишка страдальчески кричал и бился, баба хныкала. И вот я потерялся.
Я заходил со всех сторон. Демьян Лукич и акушерка стояли сзади меня. Они молчали, ничего такого они никогда не видели.
«Что это такое... Мозговая грыжа... Гм... он живёт... Саркома... Гм... мягковата... Какая-то невиданная, жуткая опухоль... Откуда же она развилась... Из бывшего глаза... А может быть, его никогда и не было... Во всяком случае, сейчас нет...»
– Вот что, – вдохновенно сказал я, – нужно будет вырезать эту штуку...
И я тут же представил себе, как я надсеку веко, разведу их в стороны и...
«И что... Дальше-то что? Может, это действительно из мозга?.. Фу, черт... Мягковато... на мозг похоже...»
– Что резать? – спросила баба, бледнея. – На глазу резать? Нет моего согласия...
И она в ужасе стала заворачивать младенца в тряпки.
– Никакого глаза у него нет, – категорически ответил я, – ты гляди, где ж ему быть. У твоего младенца странная опухоль...
– Капелек дайте, – говорила баба в ужасе.
– Да что ты, смеешься? Каких таких капелек? Никакие капельки тут не помогут!
– Что ж ему, без глаза, что ли, оставаться?
– Нет у него глаза, говорю тебе...
– А третьего дни был! – отчаянно воскликнула баба.
«Черт!..»
– Не знаю, может, и был... черт... только теперь нет... И вообще, знаешь, милая, вези ты своего младенца в город. И немедленно, там сделают операцию... Демьян Лукич, а?
– М-да, – глубокомысленно отозвался фельдшер, явно не зная, что и сказать, – штука невиданная.
– Резать в городе? – спросила баба в ужасе. – Не дам.
Кончилось это тем, что баба увезла своего младенца, не дав притронуться к глазу.
Два дня я ломал голову, пожимал плечами, рылся в библиотечке, разглядывал рисунки, на которых были изображены младенцы с вылезающими вместо глаз пузырями... Черт.
А через два дня младенец был мною забыт.
__________
Прошла неделя.
– Анна Жукова! – крикнул я.
Вошла веселая баба с ребенком на руках.
– В чем дело? – спросил я привычно.
– Бока закладает, не предохнуть, – сообщила баба и почему-то насмешливо улыбнулась.
Звук ее голоса заставил меня встрепенуться.
– Узнали? – спросила баба насмешливо.
– Постой... постой... да это что... Постой... это тот самый ребенок?
– Тот самый. Помните, господин доктор, вы говорили, что глаза нету и резать чтобы...
Я ошалел. Баба победоносно смотрела, в глазах ее играл смех.
На руках молчаливо сидел младенец и глядел на свет карими глазами. Никакого желтого пузыря не было и в помине.
«Это что-то колдовское...» – расслабленно подумал я.
Потом, несколько придя в себя, осторожно оттянул веко. Младенец хныкал, пытался вертеть головой, но всё же я увидал... малюсенький шрамик на слизистой... А-а...
– Мы как выехали от вас тады... он и лопнул...
– Не надо, баба, не рассказывай, – сконфуженно сказал я, – я уже понял...
– А вы говорите, глаза нету... Ишь, вырос. – И баба издевательски хихикнула.
«Понял, черт меня возьми... у него из нижнего века развился громаднейший гнойник, вырос и оттеснил глаз, закрыл его совершенно... а потом, как лопнул, гной вытек... и все пришло на место».
__________
Нет. Никогда, даже засыпая, не буду горделиво бормотать о том, что меня ничем не удивишь. Нет. И год прошёл, пройдет другой год и будет столь же богат сюрпризами, как и первый... Значит, нужно покорно учиться.
Булгаков Михаил Афанасьевич
Звездная сыпь
Это он! Чутье мне подсказало. На знание мое рассчитывать не приходилось. Знания у меня, врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет, конечно, не было.
Я побоялся тронуть человека за обнажённое и тёплое плечо (хотя бояться было нечего) и на словах велел ему:
– Дядя, а ну-ка, подвиньтесь ближе к свету!
Человек повернулся так, как я этого хотел, и свет керосиновой лампы-молнии залил его желтоватую кожу. Сквозь эту желтизну на выпуклой груди и на боках проступала мраморная сыпь. «Как в небе звезды», подумал я и с холодком под сердцем склонился к груди, потом отвел глаза от нее, поднял их на лицо. Передо мной было лицо сорокалетнее, в свалявшейся бородке грязно-пепельного цвета, с бойкими глазками, прикрытыми напухшими веками. В глазках этих я, к великому моему удивлению, прочитал важность и сознание собственного достоинства.
Человек помаргивал и оглядывался равнодушно и скучающе и поправлял поясок на штанах.
«Это он, сифилис», – вторично мысленно и строго сказал я. В первый раз в моей врачебной жизни я натолкнулся на него, я – врач, прямо с университетской скамеечки брошенный в деревенскую даль в начале революции.
На сифилис этот я натолкнулся случайно. Этот человек приехал ко мне и жаловался на то, что ему заложило глотку. Совершенно безотчетно и не думал о сифилисе, я велел ему раздеться, и вот тогда увидел эту звездную сыпь.
Я сопоставил хрипоту, зловещую красноту в глотке, странные, белые пятна в ней, мраморную грудь, и догадался. Прежде всего, я малодушно вытер руки сулемовым шариком, причем беспокойная мысль – «кажется, он кашлянул мне на руки», – отравила мне минуту. Затем беспомощно и брезгливо повертел в руках стеклянный шпадель, при помощи которого исследовал горло моего пациента. Куда бы его деть?
Решил положить на окно, на комок ваты.
– Вот что, – сказал я, – видите ли... Гм... По-видимому... Впрочем, даже наверно... У вас, видите ли, нехорошая болезнь – сифилис...
Сказал это и смутился. Мне показалось, что человек этот очень сильно испугается, разнервничается...
Он нисколько не разнервничался и не испугался. Как-то сбоку он покосился на меня, вроде того, как смотрит круглым глазом курица, услышав призывающий ее голос. В этом круглом глазе я очень изумленно отметил недоверие.
– Сифилис у вас, – повторил я мягко.
– Это что же? – спросил человек с мраморной сыпью.
Тут остро мелькнул у меня перед глазами край снежнобелой палаты, университетской палаты, амфитеатр со студенческими головами и седая борода профессора-венеролога... Но быстро я очнулся и вспомнил, что я в полутора тысячах верст от амфитеатра и в 40 верстах от железной дороги, в свете лампы-молнии... За белой дверью глухо шумели многочисленные пациенты, ожидающие очереди. За окном неуклонно смеркалось, и летел первый зимний снег.
Я заставил пациента раздеться ещё больше и нашёл заживающую уже первичную язву. Последние сомнения оставили меня, и чувство гордости, неизменно являющееся каждый раз, когда я, верно, ставил диагноз, пришло ко мне.
– Застегивайтесь, – заговорил я, – у вас сифилис! Болезнь весьма серьезная, захватываюшая весь организм. Вам долго придется лечиться!
Тут я запнулся, потому что, – клянусь! – прочел в этом, похожем на куриный, взоре, удивление, смешанное явно с иронией.
– Глотка вот захрипла, – молвил пациент.
– Ну да, вот от этого и захрипла. От этого и сыпь на груди. Посмотрите на свою грудь...
Человек скосил глаза и глянул. Иронический огонек не погасал в глазах.
– Мне бы вот глотку полечить, – вымолвил он.
«Что это он все свое? – уже с некоторым нетерпением подумал я, – я про сифилис, а он про глотку! «
– Слушайте, дядя, – продолжал я вслух, – глотка дело второстепенное. Глотке мы тоже поможем, но самое главное, нужно вашу общую болезнь лечить. И долго вам придется лечиться – два года.
Тут пациент вытарашил на меня глаза. И в них я прочел свой приговор: «Да ты, доктор, рехнулся!»
– Что ж так долго? – спросил пациент – Как это так два года?! Мне бы какого-нибудь полоскания для глотки...
Внутри у меня все загорелось. И я стал говорить. Я уже не боялся испугать его. О, нет, напротив, я намекнул, что и нос может провалиться. Я рассказал о том, что ждет моего пациента впереди, в случае, если он не будет лечиться как следует. Я коснулся вопроса о заразительности сифилиса и долго говорил о тарелках, ложках и чашках, об отдельном полотенце...
– Вы женаты? – спросил я.
– Женат, – изумленно отозвался пациент.
– Жену немедленно пришлите ко мне! – взволновано и страстно говорил я. – Ведь, она тоже, наверное, больна?
– Жену?! – спросил пациент и с великим удивлением всмотрелся в меня.
Так мы и продолжали разговор. Он, помаргивая, смотрел в мои зрачки, а я в его. Вернее, это был не разговор, а мой монолог. Блестящий монолог, за который любой из профессоров поставил бы пятерку пятикурснику. Я обнаружил у себя громаднейшие познания в области сифилидологии и недюжинную сметку. Она заполнила темные дырки в тех местах, где не хватало строк немецких и русских учебников. Я рассказал о том, что бывает с костями нелеченного сифилитика, а попутно очертил и прогрессивный паралич. Потомство! А как жену спасти?! Или, если она заражена, а заражена она, наверное, то как ее лечить? Наконец, поток мой иссяк, и застенчивым движением я вынул из кармана справочник в красном переплете с золотыми буквами. Верный друг мой, с которым я не расставался на первых шагах моего трудного пути, сколько раз он выручал меня, когда проклятые рецептурные вопросы разверзали черную пасть передо мной! Я украдкой, в то время, как пациент одевался, перелистывал странички и нашел то, что мне было нужно.
Ртутная мазь – великое средство.
– Вы будете делать втирания. Вам дадут шесть пакетиков мази. Будете втирать по одному пакетику в день... вот так...
И я наглядно и с жаром показал, как нужно втирать, и сам пустую ладонь втирал в халат...
– ...Сегодня – в руку, завтра – в ногу, потом опять в руку – другую. Когда сделаете шесть втираний, вымоетесь и придете ко мне. Обязательно. Слышите? Обязательно! Да! Кроме того, нужно внимательно следить за зубами и вообще за ртом, пока будете лечиться. Я вам дам полоскание. После еды обязательно полощите...
– И глотку? – спросил пациент хрипло, и тут я заметил, что при слове «полоскание» он оживился.
– Да, да, и глотку.
Через несколько минут желтая спина тулупа уходила с моих глаз в двери, а ей навстречу протискивалась бабья голова в платке.
А еще через несколько минут, пробегая по полутемному коридору из амбулаторного своего кабинета в аптеку за папиросами, я услыхал бегло хриплый шепот:
– Плохо лечит. Молодой. Понимаешь, глотку заложило, а он смотрит, смотрит... то грудь, то живот. Тут дел полно, а на больницу полдня. Пока выедешь, – вот те и ночь. О, Господи! Глотка болит, а он мази на ноги дает.
– Без внимания, без внимания, – подтвердил бабий голос, с некоторым дребезжанием и вдруг осекся. Это я, как привидение, промелькнул в своем белом халате. Не вытерпел, оглянулся и узнал в полутьме бородёнку, похожую на бородёнку из пакли, и набрякшие веки и куриный глаз. Да и голос с грозной хрипотой узнал. Я втянул голову в плечи, как-то воровато съёжился, точно был виноват, исчез, ясно чувствуя какую-то ссадину, нагоравшую в душе. Мне было страшно.
Не уж-то же все впустую?..
...Не может быть! И месяц я сыщнически внимательно проглядывал на каждом приеме по утрам амбулаторную книгу, ожидая встретить фамилию жены внимательного слушателя моего монолога о сифилисе. Месяц я ждал его самого. И не дождался никого. И через месяц он угас в моей памяти, перестал тревожить, забылся...
Потому что шли новые и новые и каждый день моей работы в забытой глуши нёс для меня изумительные случаи, каверзные вещи, заставлявшие меня изнурять мой мозг, сотни раз теряться и вновь обретать присутствие духа и вновь окрыляться на борьбу.
Теперь, когда прошло много лет, вдалеке от забытой облупленной белой больницы, я вспоминаю звездную сыпь на его груди. Где он? Что делает? Ах, я знаю, знаю. Если он жив, время от времени, он и его жена ездят в местную больницу. Жалуются на язвы на ногах. Я ясно представляю, как он разматывает портянки, ищет сочувствия. И молодой врач, мужчина или женщина, в беленьком штопаном халате, склоняется к ногам, давит пальцем кость выше язвы, ищет причины. Находит и пишет в книге: «Lues 3», потом спрашивает, не давали ли ему для лечения черную мазь.
И вот тогда, как я вспоминаю его, он вспомнит меня, 17-й год, снег за окном и шесть пакетиков в вощеной бумаге, шесть неиспользованных липких комков.
– Как же, как же, давал... – скажет он и поглядит, но уже без иронии, а с черноватой тревогой в глазах. И врач выпишет ему йодистый калий, быть может, назначит другое лечение. Так же, быть может, заглянет, как и я, в справочник...
Привет вам, мой товарищ!
«...еще, дражайшая супруга, передайте низкий поклон дяде Софрону Ивановичу. А, кроме того, дорогая супруга, съездите к нашему доктору, покажьте ему себе, как я уже полгода больной дурной болью сифилем. А на побывке у вас не открылся. Примите лечение.
Супруг Ваш. Ан. Буков».
Молодая женщина зажала рот концом байкового платка, села на лавку и затряслась от плача. Завитки её светлых волос, намокшие от растаявшего снега, выбились на лоб.
– Подлец он? А?! – выкрикнула она.
– Подлец, – твердо ответил я.
Затем настало и самое трудное и мучительное. Нужно было успокоить её. А как успокоить? Под гул голосов, нетерпеливо ждущих в приёмной, мы долго шептались...
Где-то в глубине моей души, ещё не притупившейся к человеческому страданию, я разыскал тёплые слова. Прежде всего, я постарался убить в ней страх. Говорил, что ничего ещё ровно не известно и до исследования предаваться отчаянию нельзя. Да и после исследования ему не место: я рассказал о том, с каким успехом мы лечим эту дурную болезнь – сифилис.
– Подлец, подлец, – всхлипнула молодая женщина и давилась слезами.
– Подлец, – вторил я.
Так довольно долго мы называли бранными словами «дражайшего супруга», побывавшего дома и отбывшего в город Москву.
Наконец, лицо женщины стало высыхать, остались лишь пятна, и тяжко набрякли веки над черными отчаянными глазами.
– Что я буду делать? Ведь у меня двое детей, – говорила она сухим измученным голосом.
– Погодите, погодите, – бормотал я, – видно будет, что делать.
Я позвал акушерку Пелагею Ивановну, втроем мы уединились в отдельной палате, где было гинекологическое кресло.
– Ах, прохвост, а, прохвост, – сквозь зубы сипела Пелагея Ивановна. Женщина молчала, глаза ее были, как две черные ямки, она всматривалась в окно – в сумерки.
Это был и один из самых внимательных осмотров в моей жизни. Мы с Пелагеей Ивановной не оставили ни одной пяди тела. И нигде и ничего подозрительного я не нашел.
– Знаете что, – сказал я, и мне страстно захотелось, чтобы надежды меня не обманули, и дальше не появилась бы нигде грозная твердая первичная язва, – знаете что?.. Перестаньте волноваться! Есть надежда. Надежда. Правда, все еще может случиться, но сейчас у вас ничего нет.
– Нет?! – сипло спросила женщина, – нет? – искры появились у нее в глазах, и розовая краска тронула скулы. – А вдруг сделается?.. А?..
– Я сам не пойму, – вполголоса сказал я Пелагее Ивановне, – судя по тому, что она рассказывала, должно у нее быть заражение, однако же, ничего нет.
– Ничего нет, – как эхо откликнулась Пелагея Ивановна.
Мы еще несколько минут шептались с женщиной о разных сроках, о разных интимных вещах, и женщина получила от меня наказ ездить в больницу.
Теперь я смотрел на женщину и видел, что это человек, перешибленный пополам. Надежда закралась в нее, потом тотчас умирала. Она еще раз всплакнула и ушла темной тенью. С тех пор меч повис над женщиной. Каждую субботу беззвучно появлялась в амбулатории у меня. Она очень осунулась, резче выступили скулы, глаза запали и окружились тенями. Сосредоточенная дума оттянула углы ее губ книзу. Она привычным жестом разматывала платок, затем мы уходили втроем в палату. Осматривали ее.
Первые три субботы прошли, и опять ничего не нашли мы на ней. Тогда она стала отходить понемногу. Живой блеск зарождался в глазах, лицо оживало, расправлялась стянутая маска. Наши шансы росли. Таяла опасность. На четвертую субботу я говорил уже уверенно. За моими плечами было около 90% за благополучный исход. Прошел с лихвой первый 21-дневный знаменитый срок. Остались дальние случайные, когда язва развивается с громадным запозданием. Прошли, наконец, и эти сроки, и однажды, отбросив в таз сияющее зеркало, в последний раз ощупал железы, я сказал женщине:
– Вы вне всякой опасности. Больше не приезжайте. Это – счастливый случай.
– Ничего не будет?! – спросила она незабываемым голосом.
– Ничего.
Не хватит у меня уменья описать ее лицо. Помню только, как она поклонилась низко в пояс и исчезла.
Впрочем, еще раз она появилась. В руках у нее был сверток – два фунта масла и два десятка яиц. И после страшного боя я ни масла, ни яиц не взял. И очень этим гордился, вследствие юности. Но впоследствии, когда мне приходилось голодать в революционные годы, не раз вспоминал лампу-молнию, черные глаза и золотой кусок масла с вдавлинами от пальцев, с проступившей на нем росой.
x x x
К чему же теперь, когда прошло так много лет, я вспомнил ее, обреченную на четырехмесячный страх? Недаром. Женщина эта была второй моей пациенткой в этой области, которой впоследствии я отдал мои лучшие годы. Первым был тот – со звездной сыпью на груди. Итак, она была второй и единственным исключением: она боялась. Единственная в моей памяти, сохранившей освещенную керосиновой лампой работу нас четверых (Пелагеи Ивановны, Анны Николаевны, Демьяна Лукича и меня).
В то время, как текли ее мучительные субботы, как бы в ожидании казни, я стал искать «его». Осенние вечера длинны. В докторской квартире жарки голландки-печи. Тишина, и мне показалось, что я один во всем мире со своей лампой. Где-то очень бурно неслась жизнь, а у меня за окнами бил, стучался косой дождь, потом незаметно превратился в беззвучный снег. Долгие часы я сидел и читал старые амбулаторные книги за предшествующие 5 лет. Предо мной тысячами и десятками тысяч прошли имена и названия деревень. В этих колоннах людей я искал его и находил часто. Мелькали надписи, шаблонные, скучные: «Brоnchitis», «Laryngitis»... еще и еще... Но вот он! «Lues 3». И сбоку размашистым почерком, привычной рукой выписано:
Rp. Ung. Hydrarg. ciner. 3,0 Д. т. д.
Вот она – «черная мазь».
Опять. Опять пляшут в глазах бронхиты и катарры и вдруг прерываются... вновь «Lues»...
Больше всего было пометок именно о вторичном люесе.
Реже попадался третичный. И тогда иодистый калий размашисто занимал графу «лечение».
Чем дальше я читал старые, пахнущие плесенью, амбулаторные, забытые на чердаке, фолианты, тем больший свет проливался в мою неопытную голову. Я начал понимать чудовищные вещи.
Позвольте, а где же пометки о первичной язве? Что-то не видно. На тысячи и тысячи имен редко одна, одна. А вторичного сифилиса – бесконечные вереницы. Что же это значит? А вот что это значит...
– Это значит... – говорил я в тени самому себе и мыши, грызущей старые корешки на книжных полках шкафа, это значит, что здесь не имеют понятия о сифилисе и язва эта никого не пугает. Да-с. А потом она возьмет и заживет.
Рубец останется... так, так, и больше ничего? Нет, не больше ничего! А разовьется вторичный и бурный при этом сифилис. Когда глотка болит, и на теле появятся мокнущие папулы, то поедет в больницу Семен Хотов, 32 лет, и ему дадут серую мазь... Ага! ..
Круг света помещался на столе, и в пепельнице лежащая шоколадная женщина исчезла под грудой окурков.
– Я найду этого Семена Хотова. Гм...
Шуршали, чуть тронутые желтым тленом, амбулаторные листы. 17 июня 1916 года Семен Хотов получил шесть пакетиков ртутной целительной мази, изобретенной давно на спасение Семена Хотова. Мне известно, что мой предшественник говорил Семену, вручая ему мазь: – Семён, когда сделаешь шесть втираний, вымоешься, приедешь опять. Слышишь, Семён?
Семён, конечно, кланялся и благодарил сиплым голосом. Посмотрим: деньков через 10–12 должен Семён неизбежно опять показаться в книге. Посмотрим, посмотрим... Дым, листы шуршат. Ох, нет, нет Семёна! Нет через 10 дней, нет через 20... Его вовсе нет. Ах, бедный Семен Хотов. Стало быть, исчезла мраморная сыпь, как потухают звезды на заре, подсохли кондиломы. И погибнет, право, погибнет Семён. Я, вероятно, увижу этого Семёна с гуммозными язвами у себя на приеме. Цел ли у него носовой скелет? А зрачки у него одинаковые?.. Бедный Семён!
Но вот не Семён, а Иван Карпов. Мудреного нет. Почему же не заболеть Карпову Ивану? Да, но позвольте, почему же ему выписан каломель с молочным сахаром, в маленькой дозе?! Вот почему: Ивану Карпову 2 года! А у него «Lues 2»! Роковая двойка! В звездах принесли Ивана Карпова, на руках у матери он отбивался от цепких докторских рук. Все понятно.
Я знаю, я догадываюсь, я понял, где была у мальчишки двух лет первичная язва, без которой не бывает ничего вторичного. Она была во рту. Он получил ее с ложечки.
Учи меня, глушь! Учи меня, тишина деревенского дома! Да, много интересного расскажет старая амбулатория юному врачу.
Выше Ивана Карпова стояла: «Авдотья Карпова, 30 лет».
Кто она? Ах, понятно. Это – мать Ивана. На руках-то у нее он плакал.
А ниже Ивана Карпова:
«Авдотья Карпова, 6 лет».
– А это кто? Сестра! Каломель...
Семья налицо. Семья. И не хватает в ней только одного человека – Карпова, лет 35–40... И неизвестно, как его зовут – Сидор, Петр. О, это неважно!
«...дражайшая супруга... дурная болезнь сифиль...»
Вот он – документ. Свет в голове. Да, вероятно, приехал с проклятого фронта и не «открылся», а может, и не знал, что нужно открыться. Уехал. А тут пошло. За Авдотьей – Марья, за Марьей – Иван. Общая чашка со щами, полотенце...
Вот еще семья. И еще. Вон старик, 70 лет. «Lues 2». Старик. В чем ты виноват? Ни в чем. В общей чашке. Внеполовое, внеполовое. Свет ясен. Как ясен и беловат рассвет раннего декабря. Значит, над амбулаторными записями и великолепными немецкими учебниками с яркими картинками я просидел всю мою одинокую ночь.
Уходя в спальню, зевал, бормотал:
– Я буду с «ним» бороться.
x x x
Чтобы бороться, нужно его видеть. И он не замедлил. Лег санный путь, и бывало, что ко мне приезжало 100 человек в день. День занимался мутно-белым, а заканчивался черной мглой за окнами, в которую загадочно, с тихим шорохом уходили последние сани.
Он пошёл передо мной разнообразный и коварный. То являлся в виде язв беловатых в горле у девчонки-подростка. То в виде сабельных искривленных ног. То в виде подрытых вялых язв на жёлтых ногах старухи. То в виде мокнущих папул на теле цветущей женщины. Иногда он горделиво занимал лоб полулунной короной Венеры. Являлся отражённым наказанием за тьму отцов на ребятах, с носами, похожими на казачьи седла. Но, кроме того, он проскальзывал и незамеченным мною. Ах, – ведь я был со школьной парты!
И до всего доходил своим умом и в одиночестве. Где-то он таился и в костях и в мозгу.
Я узнал многое.
– Перетирку велели мне тогда делать.
– Черной мазью?
– Черной мазью, батюшка, черной...
– Накрест? Сегодня – руку, завтра – ногу?..
– Как же. И как ты, кормилец, узнал? (льстиво).
«Как же не узнать? Ах, как не узнать!»
– Дурной болью болел?
– Что вы! У нас и в роду этого не слыхивали.
– Угу... Глотка болела?
– Глотка-то? Болела глотка. В прошлом годе.
– Угу... А мазь давал Леонтнй Леонтьевич?
– Как же! Чёрная, как сапог.
– Плохо, дядя, втирал ты мазь. Ах, плохо!
Я расточал бесчисленные кило серой мази. Я много, много выписывал йодистого калия и много извергал страстных слов. Некоторых мне удавалось вернуть после первых шести втираний. Нескольким удалось, хотя большей частью и неполностью, провести хотя бы первые курсы впрыскиваний. Но большая часть утекала у меня из рук, как песок в песочных часах, и я не мог разыскать их в снежной мгле. Ах, я убедился в том, что здесь сифилис тем и был страшен, что он не был страшен. Вот почему в начале этого моего воспоминания я и привел ту женщину с черными глазами. И вспомнил я ее с каким-то теплым уважением именно за ее боязнь. Но она была одна!
x x x
Я возмужал, я стал, сосредоточен, порой угрюм. Я мечтал о том, когда окончится мой срок, и я вернусь в университетский город, и там станет легче в моей борьбе.
В один из таких мрачных дней на прием в амбулаторию вошла женщина молодая и очень хорошая собою. На руках она несла закутанного ребенка, а двое ребят, ковыляя и путаясь в непомерных валенках, держась за синюю юбку, выступавшую из-под полушубка, появились за нею.
– Сыпь кинулась на ребят, – сказала краснощекая бабёнка важно.
Я осторожно коснулся лба девочки, держащейся за юбку. И она скрылась в ее складках без следа. Необыкновенно мордастого Ваньку выудил с другой стороны. Коснулся и его. И лбы у обоих были не жаркие, обыкновенные.
– Раскрой, миленькая, ребенка.
Она раскрыла девочку. Голенькое тельце было усеяно не хуже, чем небо в застывшую морозную ночь. С ног до головы сидела пятнами розеола и мокнущие папулы. Ванька вздумал отбиваться и выть. Пришел Демьян Лукич и мне помог...
– Простуда, что ли? – сказала мать, глядя безмятежными глазами.
– Э-х-эх, – простуда, – ворчал Лукич и жалостливо и брезгливо кривя рот. – Весь Коробовский уезд у них так простужен.
– А с чего ж это? – спрашивала мать, пока я разглядывал ее пятнистые бока и грудь.
– Одевайся, – сказал я.
Затем присел к столу, голову положил на руку и зевнул. (Она приехала ко мне одной из последних в этот день, и номер ее был 96) . Потом я заговорил:
– У тебя, тетка, а также у твоих ребят «дурная боль». Опасная, страшная болезнь. Вам всем сейчас же нужно начинать лечиться и лечиться долго.
Как жаль, что словами трудно изобразить недоверие в выпуклых голубых бабьих глазах. Она повернула младенца, как полено на руках, тупо поглядела на ножки и спросила:
– Скудова же это?
Потом криво усмехнулась.
– Скудова – не интересно, – отозвался я, закуривая пятидесятую папиросу за этот день, – другое ты лучше спроси, что будет с твоими ребятами, если не станешь лечить.
– А что? Ничаво не будет, – ответила она и стала заворачивать младенца в пеленки.
У меня перед глазами лежали часы на столике. Как сейчас помню, что поговорил я не более трех минут и баба зарыдала. И я очень был рад этим слезам, потому что только благодаря им, вызванным моими нарочито жесткими и пугающими словами, стала возможна дальнейшая часть разговора:
– Итак, они остаются. Демьян Лукич, вы поместите их во флигеле. С тифозными мы справимся во 2-й палате. Завтра я поеду в город и добьюсь разрешения открыть стационарное отделение для сифилитиков.
Великий интерес вспыхнул в глазах фельдшера.
– Что вы, доктор, – отозвался он (великий скептик был), – да как же мы управимся одни? А препараты? Лишних сиделок нету... А готовить?.. А посуда? шприцы?!
Но я тупо, упрямо помотал головой и отозвался:
– Добьюсь.
Прошел месяц...
В трех комнатах занесенного снегом флигелька горели лампы с жестяными абажурами. На постелях бельишко было рваное. Два шприца всего было. Маленький однограммовый и пятиграммовый – люэр. Словом, это была жалостливая, занесенная снегом бедность. Но... гордо лежал отдельно шприц, при помощи которого я, мысленно замирая от страха, несколько раз уже делал новые для меня еще загадочные и трудные вливания Сальварсана.
И еще: на душе у меня было гораздо спокойнее – во флигельке лежали семь мужчин и пять женщин, и с каждым днем таяла у меня на глазах звездная сыпь.
Был вечер. Демьян Лукич держал маленькую лампочку и освещал застенчивого Ваньку. Рот у него был вымазан манной кашей. Но звезд на нем уже не было. Итак, все четверо прошли под лампочкой, лаская мою совесть.
– К завтраму, стало быть, выпишусь, – сказала мать, поправляя кофточку.
– Нет, нельзя еще, – ответил я, – еще один курс придется претерпеть.
– Нет моего согласия, – ответила она, – делов дома срезь. За помощь спасибо, а выписывайте завтра. Мы уже здоровы.
Разговор разгорелся, как костер. Кончился он так:
– Ты... ты знаешь, – заговорил я и почувствовал, что багровею, – ты знаешь... ты дура!..
– Ты что же это ругаешься? Это, какие же порядки – ругаться?
– Разве тебя «дурой» следует ругать? Не дурой, а... а!.. Ты посмотри на Ваньку! Ты что же хочешь его погубить? Ну, так я тебе не позволю этого!
И она осталась еще на десять дней.
Десять дней! Больше никто бы ее не удержал. Я вам ручаюсь. Но, поверьте, совесть моя была спокойна и даже... «дура» не потревожила меня. Не раскаиваюсь, что брань по сравнению со звездной сыпью!
x x x
Итак, ушли года. Давно судьба и бурные лета разлучили меня с занесенным снегом флигелем. Что там теперь и кто? Я верю, что лучше. Здание выбелено, быть может, и белье новое. Электричества-то, конечно, нет. Возможно, что сейчас, когда я пишу эти строки, чья-нибудь юная голова склоняется к груди больного. Керосиновая лампа отбрасывает свет желтоватый на желтоватую кожу...
Привет, мой товарищ!
Вересаев Викентий Викентьевич
Из «Записок врача» Отрывок № 1
На втором курсе подготовительные, теоретические предметы закончились. Я сдал полулекарский экзамен. Начались занятия в клиниках.
Здесь характер получаемых знаний резко изменился. Вместо отвлеченной науки на первый план выдвинулся живой человек; теории воспаления, микроскопические препараты опухолей и бактерий сменились подлинными язвами и ранами. Больные, искалеченные, страдающие люди бесконечною вереницею потянулись перед глазами; легких больных в клиники не принимают,– все это были страдания, тяжелые, серьезные. Их обилие и разнообразие произвели на меня ошеломляющее действие; меня поразило, какая существует масса страданий, какое разнообразие самых утонченных, невероятных мук заготовила нам природа, – мук, при одном взгляде на которые на душе становилось жутко.
Вскоре после начала клинических занятий в клинику старших курсов был положен огородник, заболевший столбняком. Мы ходили смотреть его. В палате стояла тишина. Больной был мужик громадного роста, плотный и мускулистый, с загорелым лицом; весь облитый потом, с губами, перекошенными от безумной боли, он лежал на спине, ворочая глазами; при малейшем шуме, при звонке конки на улице или стуке двери внизу больной начинал медленно выгибаться: затылок его сводило назад, челюсти судорожно впивались одна в другую, так что зубы трещали, и страшная, длительная судорога спинных мышц приподнимала его тело с постели; от головы во все стороны расходилось по подушке мокрое пятно от пота. Две недели назад больной работал босиком на огороде и занозил себе большой палец ноги; эта пустячная заноза вызвала то, что я теперь видел.
Ужасно было не только то, что существуют подобные муки; еще ужаснее было то, как легко они приобретаются, как мало гарантирован от них самый здоровый человек. Две недели назад всякий бы позавидовал богатырскому здоровью этого самого огородника. Шёл по двору крепкий парень-конюх, поскользнулся и ударился спиною о корыто, – и вот он уже шестой год лежит у нас в клинике: ноги его висят, как плети, больной ими не может двинуть, он мочится и ходит под себя; беспомощный, как грудной ребенок, он лежит так дни, месяцы, годы, лежит до пролежней, и нет надежды, что когда-нибудь воротится прежнее... Вот акцизный чиновник с воспалением седалищного нерва, доведенный страданиями до бешенства, кричит профессору:
– Подлецы вы все, шарлатаны! Да убейте же вы меня, ради создателя,– одного только я у вас прошу! В хороший летний вечер он посидел на росистой траве…
В каждую минуту, на каждом шагу нас подстерегают опасности: защититься от них невозможно, потому что они слишком разнообразны, бежать некуда, потому что они везде. Само здоровье наше – это не спокойное состояние организма; при глотании, при дыхании в нас ежеминутно проникают мириады бактерий, внутри нашего тела непрерывно образуются самые сильные яды; незаметно для нас все силы нашего организма ведут отчаянную борьбу с вредными веществами и влияниями, и мы никогда не можем считать себя обеспеченными от того, что, может быть, вот в эту самую минуту сил организма не хватило, и наше дело проиграно. И тогда из небольшой царапины развивается рожа, флегмона или гнилокровие, незначительный ушиб ведет к образованию рака или саркомы, легкий бронхит от открытой форточки переходит в чахотку.
Нужны какие-то идеальные, для нашей жизни совершенно необычные условия, чтобы болезнь стала действительно «случайностью»; при настоящих же условиях болеют все: бедные болеют от нужды, богатые – от довольства; работающие – от напряжения, бездельники – от праздности; неосторожные – от неосторожности, осторожные – от осторожности. Но всех людях с самых ранних лет гнездится разрушение, организм начинает разлагаться, даже не успев еще развиться. В Бостоне были исследованы зубы у четырех тысяч школьников, и оказалось, что здоровые зубы, особенно у детей старше десяти лет, составляют исключение: в Баварии среди пятисот учеников народных школ было найдено лишь трое с совершенно здоровыми зубами. Д-р Бабес вскрыл в будапештской больнице сто детских трупов, и у семидесяти четырех из них он нашел в бронхиальных железах туберкулезные палочки; а все эти сто детей умерли от различных не туберкулезных болезней... Уж дети встают после сна с «заспанными», гноящимися глазами; уже ребенком каждый страдает хроническим насморком и не может обойтись без носового платка,– всех прямо удивила бы мысль, что здоровому человеку носовой платок совершенно не нужен. Что же касается достигших зрелости женщин, то они уже нормально, физиологически осуждены каждый месяц болеть в течение нескольких дней.
С новым и странным чувством я приглядывался к окружавшим меня людям, и меня все больше поражало, как мало среди них здоровых; почти каждый чем-нибудь да был болен. Мир начинал казаться мне одною громадною, сплошною больницею. Да, это становилось все несомненнее: нормальный человек – это человек больной; здоровый представляет собою лишь счастливое уродство, резкое уклонение от нормы.
Когда я в первый раз приступил к изучению теоретического акушерства, я, раскрыв книгу, просидел за нею всю ночь напролет; я не мог от нее оторваться; подобный тяжелому, горячечному кошмару, развертывался передо мною «нормальный» «физиологический» процесс родов. Брюшные органы, скомканные и придавленные беременною маткою, типически-болезненные родовые потуги, весь этот ужасный, кровавый путь, который ребенок проходит при родах, это невероятное несоответствие размеров – все здесь было чудовищно ненормально, вплоть до тех рубцов на животе, по которым узнается хоть раз рожавшая женщина... Помню хорошо, как сегодня, и первые роды, на которых я присутствовал. Роженица была молодая женщина, жена мелкого почтового чиновника, второродящая... Она лежала на спине, с обнаженным громадным животом, беспомощно уронив руки, с выступившими на лбу капельками пота, когда ее схватывали потуги, она сгибала колени и стискивала зубы, стараясь сдерживать стоны, и все-таки стонала.
– Ну, ну, сударыня, потерпите немножко! – невозмутимо спокойным голосом уговаривал ее ассистент.
Ночь была бесконечно длинна. Роженица уж перестала сдерживаться; она стонала на всю палату, всхлипывая, дрожа и заламывая пальцы; стоны отдавались в коридоре и замирали где-то далеко под сводами. После одного особенно сильного приступа потуг больная схватила ассистента за руку; бледная, с измученным лицом, она смотрела на него жалким, умоляющим взглядом.
– Доктор, скажите, я не умру? – спрашивала она с тоскою.
Утром в клинику пришел наведаться о состоянии роженицы ее муж, взволнованный и растерянный. Я присматривался к нему с тяжелым, неприязненным чувством; это был у них второй ребенок,– значит, он знал, что жене его предстоят все эти муки, и все-таки пошел на это... Только поздно вечером роды стали приходить к концу. Показалась головка, все тело роженицы стало судорожно сводиться в отчаянных усилиях, вытолкнуть из себя ребенка; ребенок, наконец, вышел; он вышел с громадною кровяною опухолью на левой стороне затылка, с изуродованным, длинным черепом. Роженица лежала в забытьи, с надорванною промежностью, плавая в крови.
– Роды были легкие и малоинтересные,– сказал ассистент.
Это все тоже было «нормально»!.. И дело тут не в том, что «цивилизация» сделала роды труднее: в тяжелых муках женщины рожали всегда, и уж древний человек был поражен этой странностью и не мог объяснить ее иначе, как проклятьем бога.
Описанные впечатления ложились на душу одно за другим, без перерыва, всё, усиливая густоту красок.
Однажды ночью я проснулся. Мне снилось, что я шел по какому-то узкому, темному переулку: на меня наехала карета, ударила дышлом в бок, и у меня образовался pneumethorax. Я сел па постели. Бледная ночь смотрела в окно; вентилятор, перетерший смазку, наполнял тишину яростным, прерывистым хрипом; в кухне плакал больной ребенок квартирной хозяйки. Все виденное и передуманное в последнее время вдруг встало предо мною, и я ужаснулся, до чего человек не защищен от случайностей, на каком тонком волоске висит всегда его здоровье. Только бы его, здоровья, – с ним ничего не страшно, никакие испытания; его потерять– значит потерять все; без него нет свободы, нет независимости, человек становится рабом окружающих людей и обстановки; оно – высшее и необходимейшее благо, а между тем удержать его так трудно! Пришлось бы всю жизнь, все силы положить на это; но ведь обидно и смешно ставить себе это целью жизни. Притом, все равно ничего не достигнешь даже в том случае, если только для этого и жить. Беречься? Но этим теряешь приспособляемость; птица безнаказанно спит под дождем, мокрая до последнего перышка, мы бы при таких условиях получили смертельную простуду. Да и как беречься? Мы ничего не знаем, отчего происходит рак, саркома, масса нервных страданий, сахарная болезнь, большинство мучительных кожных болезней. Как ни берегись, а может быть, через год в это время я уже не буду лежать, пораженный pemphigo foiacego; вся кожа при этой болезни покрывается вялыми пузырями; пузыри лопаются и обнажают подкожный слой, который больше не зарастает; и человек, лишенный кожи, не знает, как сесть, как лечь, потому что самое легкое прикосновение к телу вызывает жгучие боли.
Отрывок № 2 «Врачебная тайна»
Раньше в вопросе о врачебной тайне у нас царила точка зрения, которую энергично отстаивал профессор В.А. Манасеин в редактировавшейся им газете «Врач». Газета эта сыграла огромную положительную роль в общественном и моральном воспитании русских врачей, заслуги Манасеина в этом отношении неоценимы. Однако в вопросе о врачебной тайне он занимал позицию совершенно антиобщественную. Манасеин стоял за абсолютное сохранение врачебной тайны при всех обстоятельствах. Он мотивировал это тем соображением, что только при полнейшей уверенности в сохранении его тайны больной будет говорить врачу всю о себе правду.
Манасеин в этой области не останавливался перед самыми крайними выводами. Помню два таких примера.
К частному глазному врачу обратился за помощью железнодорожный машинист. Исследуя его, врач попутно открыл, что больной страдает дальтонизмом. Это – недостаток цветов, чаще всего не может отличать зеленого цвета от красного. Но, как известно, вся железнодорожная сигнализация основана как раз на различении зеленого цвета от красного; зеленый флаг или фонарь знаменует свободный путь, красный – дает сигнал, что грозит опасность. Врач сообщил машинисту о его болезни и сказал, что ему нужно отказаться от работы машиниста. Больной ответил, что он никакой другой работы не знает и от службы отказаться не может. Что должен был сделать врач? Манасеин отвечал: «Молчать. Виновато железнодорожное управление, что оно не устраивает периодических врачебных осмотров своих служащих. А врач не имеет права выдавать тайн, которые узнал благодаря своей профессии, это – предательство по отношению к больному».
Другой случай – такой. К одному парижскому врачу-профессору обратился за советом жених его дочери. У молодого человека оказался сифилис. Профессор заявил ему, что теперь о браке с его дочерью ему нечего и думать. Молодой человек ответил: «Нет, я все-таки хочу жениться на вашей дочери. А от вас требую сохранения врачебной тайны, которую вы, как врач, не имеете права нарушить». Профессор ответил: «Вы правы, нарушить врачебной тайны я не могу. Но знайте, – при первой же встрече я публично дам вам пощечину. Таким образом, свадьба ваша все равно расстроится». Манасеин с большим удовлетворением приводил в своей газете этот ответ профессора, как остроумный способ разрешения конфликта, казалось бы, неразрешимого. Но ведь тайну нарушает врач не только тогда, когда непосредственно разглашает ее словами, а вообще, когда действует, зная ее, не так, как бы действовал, если бы тайны не знал. Своею угрозою профессор все равно нарушал доверенную ему врачебную тайну.
Для нас точка зрения Манасеина на врачебную тайну представляется совершенно неприемлемою. Где сохранение врачебной тайны грозит вредом обществу или окружающим больного лицам, там не может быть никакой речи о сохранении врачебной тайны. Вопрос о врачебной тайне, безусловно, должен регулироваться соображениями общественной целесообразности.
В настоящее время по вопросу о врачебной тайне у нас царит точка зрения, диаметрально противоположная точке зрения Манасеина. Эту новую точку зрения энергично отстаивает в своих выступлениях наркомздрав Н.А. Семашко. На одном диспуте, состоявшемся в Москве в январе 1928г., Н.А. Семашко, как сообщают газетные отчеты, говорил, например, так:
« – Мы держим курс на полное уничтожение врачебной тайны. Врачебной тайны не должно быть. Это вытекает из нашего основного лозунга, что «болезнь – не позор, а несчастие». Но, как и везде, в наш переходный период мы и в эту область вносим поправки, обусловленные бытовыми пережитками. Каждый врач должен сам решать вопрос о пределах этой «тайны».
«Профессор А.И. Абрикосов, – продолжает газетный отчет, – от имени московской профессуры полностью солидаризировался со словами наркома и этим как бы признал вопрос исчерпанным».
Я лично никак не могу признать этот вопрос исчерпанным. Сам вопрос ставится в корне неправильно. Если сохранение врачебной тайны является общественно вредным, то сохранять ее не следует. И в таком случае совершенно безразлично, как смотрит на свою болезнь больной, – как на «позор», или как на «несчастие». Если же сохранение тайны никаким общественным вредом не грозит, то врач обязан сохранять вверенную ему больным тайну, как бы он сам ни смотрел на данную болезнь, – как на «позор», или как на «несчастие».
Точка зрения, энергично выдвигаемая Н.А. Семашко, на практике, в рядовой массе врачей, ведет к ужасающему легкомыслию и к возмутительнейшему пренебрежению к самым законным правам больного. После диспута в одном большом провинциальном городе, где один из моих оппонентов энергично выдвигал нынешнюю точку зрения на врачебную тайну, ко мне подошла девушка и, сильно волнуясь, сказала:
– Вы меня сегодня видите в первый и последний раз. Я вам скажу всё.
И рассказала, что она страдает известным тайным пороком, это ее очень мучило, она обратилась за помощью к врачу. Через несколько времени она узнает от подруги, что врач этот свободнейшим образом рассказывает направо и налево об ее болезни. Она возмутилась и пошла к врачу за объяснениями. Он чуть-чуть смутился, но сейчас же оправился и ответил ей: «Наша советская медицина врачебной тайны не признает. Ваша болезнь не позор, а несчастие, и стыдиться ее совершенно нечего». Как, правильно поступил этот врач? Я ответил:
– Негодяй, – никакого об этом не может быть и спора!
Повторяю: если нет в соблюдении тайны никакого вреда для общества или для окружающих больного, то совершенно не дело врача решать, «позор» ли, или «несчастие» болезнь его пациента. Это имеет полное право решать сам пациент, не справляясь с взглядами врача. Жизнь бесконечно сложна, невозможно даже себе представить всего многообразия случаев, когда нарушение тайны больного может иметь для него очень тяжелые последствия, никакой не принося пользы обществу. Беременность, аборт, излеченный сифилис, – в конце концов, почти всякая болезнь, всякая рана. Мало ли как могут сложиться обстоятельства. Помню, однажды поздно вечером ко мне явился приятель и просил немедленно поехать с ним на его квартиру. Там я застал одну общую нашу знакомую. У нее была прострелена револьверною пулею левая грудь. Вправе ли были оба рассчитывать, что я буду молчать о том, что увидел? Конечно. Преступления не могло тут быть, – обе стороны хотели скрыть происшедшее. А до остального, – какое мне дело? Какое я имею право мешаться в чужие дела? Я тут обязан был молчать и никому не рассказывать о виденном.
Положение: «Мы держим курс на полное уничтожение врачебной тайны» – никоим образом не может быть принято. Напротив, основным положением в данном вопросе должно быть: «Врач обязан хранить вверенную ему больным тайну». Но к этому одно существенное ограничение: «Если сохранение тайны грозит вредом обществу или окружающим больного, то врач не только может, но и должен нарушить тайну». Однако в каждом таком случае врач должен суметь дать и перед больным и перед собственною своею совестью точный и исчерпывающий ответ, на каком основании он нарушил вверенную ему больным тайну.
9 марта 1928 г. Москва
Аксёнов Василий Павлович
Коллеги (в сокращении)
Глава 1
Кто они такие?
В анкетах они писали: год рождения – 1932-й, происхождение – из служащих; партийность – член ВЛКСМ с 1947 года; участие в войнах – не участвовал; судимость – нет; имеет ли родственников за границей – нет; и еще несколько «нет» до графы «семейное положение», в которой все они писали – холост. Автобиографии их умещались на половине странички, а рассказывали они о себе так.
Алексей Максимов. Как говорят, когда-то мы все были ребенками. Мама у меня учительница. Папы нет. Где жил? Мы часто переезжали с места на место. Родился-то в Новгороде. В школе учился хорошо. Любимый предмет? Чистописание. В школе играл в футбол, а в институте – в волейбол. Я и сейчас играю в волейбол и всегда буду в него играть. Почему в медицинский пошел? Вам это интересно? Ах, интересно! Ну, по недоразумению. Медицина? Я жить без нее не могу. А какого черта вы меня все расспрашиваете, словно начальник отдела кадров. Я грубиян? Идите вы знаете куда!
Владислав Карпов. Мальчик, если вы не видели Черного моря, вы ничего не видели. Мой папа – рыбак. Любите копченую скумбрию?
Да, конечно, я спортсмен. Разве не видно? Всеми видами спорта. Больше всего люблю бильярд. А вы? Сыграем как-нибудь? Вы сами откуда? Любите танцевать? Вы мне нравитесь, чтоб я так жил. Приезжайте к нам – не пожалеете. Черное море – это что? Значит, до скорого.
Александр Зеленин. Да, я коренной ленинградец. Пройдите сюда, в столовую. Видите на стене эти старинные дагерротипы? Это мои предки. Вот магистр философии Петербургского университета, а этот известный путешественник, а этот в Шлиссельбурге сидел по делу о покушении. Ничего, что я ими немножко горжусь? Потом у нас пошли все врачи. И папа мой врач, и мама тоже, и я, как известно, врач без пяти минут. Да, я не только люблю медицину, но считаю профессию врача самой нужной на свете. А какой она дает кругозор! Вы знаете, я чувствую, что с каждым годом начинаю лучше понимать людей и с физиологической и с психологической стороны. Я очень доволен своей профессией. Жалко только, что скоро придется уезжать из Ленинграда. Не могу представить, что больше не буду бродить по Большому проспекту и по набережной, любоваться закатом, когда, знаете, все окна в Эрмитаже вспыхивают малиновым светом... Но что делать? Ведь это же, как говорится, наш долг. Ну что ты смеешься, Алексей? Всегда он, знаете ли, вот так.
От автора. Алексей Максимов – мрачный и резкий. Вечно он что-то такое изображает. Владислав Карпов – из тех, кого характеризуют двумя словами: «Свой парень». Иногда добавляют: «Свой в доску». Любимец девочек, гитарист. Александр Зеленин – немного смешной, порывистый, очень вежливый, очень прямой, очень приятный человек.
Их дружба началась на первом курсе. Иногда удивляются дружбе совершенно разных людей, но по-настоящему дружить могут только разные люди. Между людьми сходных характеров и темпераментов неизбежны резкие столкновения и неизбежен разрыв. У этой троицы вдумчивость Зеленина и его пылкая искренность как бы уравновешивали довольно наигранный цинизм Максимова и легковесность Владьки Карпова.
Вот они какие. И сейчас, весной 1956 года, они идут втроем против ветра и думают все об одном.
Их мысли о распределении
– Откуда это, Сашка, в тебе такая идейность? – сердито спросил Алексей Максимов. – Тоже мне загнул – экзамен наших душ!
– Так оно и есть! – воскликнул Зеленин.
– Черта с два! Распределение – это принудительный акт. И каждый культурный человек, естественно, рассчитывает, как бы увильнуть от жизни в глуши и не превратиться в животное.
– Чушь! Геологи годами бродят в тайге и не превращаются в животных.
– Геологи! Геологам лафа. Они уходят партиями, все молодежь, весело. А нас что ждет? Думаешь, я боюсь отсутствия электричества и теплого клозета? Ерунда все это! Я готов... А вот представь себе участковую больницу. Деревенька, степь или лес, ветер свищет, и ты один, совершенно один. Кончил работу, поел, послонялся из угла в угол – и спать. Проходят годы, ты толстеешь, глупеешь, начинаешь принимать приношения благодарных пациентов, мысли твои заняты курочками, свинюшками, и тебе уже больше ничего не надо, и ты уже со снисходительной улыбкой вспоминаешь об этом разговоре.
– Брр! – передернулся Владька Карпов. – Ну тебя к бесу, Макс! Страшно.
– И ты, сын рыбака, боишься деревни? – спросил Зеленин.
– Страшней войны, – засмеялся Карпов. – Но что делать – таков наш скорбный удел. Хочешь не хочешь, а надо идти, как поется, собирать свой тощий чемодан.
– А чего ты, собственно, хочешь? – резко спросил Максимов.
– Я? Мальчики, я хочу всегда видеть наших девочек и ваши опостылевшие физиономии, по-прежнему попирать камни этого исторического города, и ходить на эстрадные концерты и в цирк, и сам хочу выступать в цирке. «Соло-клоун и музыкальный эксцентрик Владислав Карпов...» Между прочим, не отказался бы от места ординатора в клинике Круглова.
– А ты чего хочешь, Алексей? – спросил Зеленин.
– Я хочу жить взволнованно! – с вызовом ответил Максимов. – Все равно где, но так, чтобы все выжимать из своей молодости. А будущее сулит сплошную серость. Судьба сельского лекаря. Надо быть честным. Нас теперь научили смотреть правде в глаза. Пускай Тарханов и иже с ними поют нам о высоком призвании, о патриотическом долге, пускай Чивилихин кричит, что трудности не страшат нас, молодых романтиков. Все знают, что он-то обеспечил себе местечко в клинической ординатуре. Какая нас ждет романтика? Вот если бы мне сказали: лезь в эту ракету, и тобой выстрелят в космос, и ты наверняка рассыплешься в прах во имя науки, – я бы только «ура» закричал. А когда мне толкуют, что мое призвание и мой долг – превратиться в Ионыча, тут уж нет, пожалуйста, не надо красивых слов! Приму как неизбежность!
– А о больных, которые тебя ждут, ты думаешь? – спросил Зеленин.
– О больных? – опешил Максимов.
Владька вставил:
– Помните, как Гущин на обходе говорил: «Нда-с, батеньки, несмотря на все наши усилия, больные поправляются».
– А о других ты ни о ком не думаешь, Алексей? – спросил Зеленин.
– А ты только о других и думаешь?! – крикнул Максимов. – Эх, Алешка, Алешка, трудно тебе будет!
– Не волнуйся за меня, рыцарь, умоляю тебя, не волнуйся!
– Пошли в кино, хлопцы, – предложил Карпов.
Распределение
К дивану подходит пожилой человек в потертом драпвелюровом пальто и велюровой шляпе.
– Ну, орлы, а вы куда собираетесь?
– В Рио-де-Жанейро, – острит Карпов.
Незнакомец спокойно говорит:
– Что ж тут смешного? Можно и в Рио-де-Жанейро. Мне нужны судовые врачи. Есть желающие? Разъяснить? Я начальник медуправления Балтийского морского пароходства. Набираем врачей на суда. Условиями будете довольны. В рейсах двойной оклад плюс валюта. Стол бесплатный. Для ознакомления поработаете несколько месяцев в порту, а потом в путь.
– Куда?! – восклицает Максимов.
– Рейсы самые разные – Индия, Аргентина, есть и поближе – Лондон, Антверпен, Гавр. Ну?
– Согласен! – одновременно выпаливают Максимов и Карпов. Остальные задумываются.
– Полная деквалификация, – говорит Зеленин, – это же полная деквалификация, ребята!
– Ошибаетесь, – обидчиво возражает человек. – На судне надо быть знающим и решительным врачом. Возможны всякие случайности. Недавно один наш врач оперировал ущемленную грыжу в штормовых условиях, в Атлантике. Представляете? Можно и научной работой заниматься. Не удивляйтесь. Чем, например, не тема для диссертации – физиология труда моряков в условиях резкой смены климатических зон? Дело непочатое. Возьметесь за него с огоньком – обещаю всестороннюю поддержку.
– Квартиру даете? – спрашивает Петр Столбов.
– На первых порах общежитие. Прописка постоянная в Ленинграде. Но в перспективе и квартира...
– Ясно. Я согласен.
Незнакомец открывает блокнот.
– Ваши фамилии, орлы? Итак, Максимов, Карпов, Столбов и... Нужен еще один.
– Зеленина запишите! – кричит Максимов и показывает кулак молчащему Сашке.
Человек уходит. Студенты молчат. Зеленин молчит и дымит. Столбов молчит, прикидывает. Максимов и Карпов молчат и остолбенело смотрят перед собой. Все! Где она, судьба Ионыча? Где сытое прозябание в деревенской глуши? Человек в драпвелюровом пальто, словно волшебник в детском спектакле, отдернул шторку, за которой открылась сверкающая водная гладь. Проплыл мираж – пальмы, небоскребы, купола, пирамиды. Вы мечтали о жизни необычайной, насыщенной, интересной? Вы думали, мечты не осуществляются? Напрасно. Получайте входные билеты и бегите в будущее, увлекательное и легкое, как кинофильм. Индия! Аргентина! Двойной оклад! Диссертация! Штормовые условия!
Вдумчивый Сема Фишер с сомнением качает головой. Он не представляет себе жизни вне больничных стен, без утренних обходов и ночных дежурств, без мучительных раздумий над историей болезни. Игорь Пироговский завидует. Амбарцумян не знает, завидовать или не стоит. «Светский человек» Генька Бондарь иронически улыбается. Костя Горькушин возмущается: дурни, полезли в экзотику. Несерьезный народ. Владька Карпов и Леха Максимов – чудилы и стиляги, Столбов только о бизнесе думает, а Сашка-то Зеленин хорош – молчит!
– Жертвенность? Вздор! Дикое слово! Что мы, язычники?
– Ну не жертвенность, так долг. Это тебе понятно?
– Обязанность?
– Нет, братец, именно долг, наш гражданский долг. Чувство своего окопчика.
– Ух, как мне это надоело! Вся эта трепология, все эти высокие словеса. Их произносит великое множество идеалистов вроде тебя, но и тысячи мерзавцев тоже. Наверное, и Берия пользовался ими. Сейчас, когда нам многое стало известно, они стали мишурой. Давай обойдемся без трепотни. Я люблю свою страну, свой строй и, не задумываясь, отдам за это руку, ногу, жизнь, но я в ответе только перед своей совестью, а не перед какими-то словесными фетишами. Они только мешают видеть реальную жизнь. Понятно?
Зеленин с силой ударил кулаком по граниту и вроде не почувствовал боли.
– Ты не прав, Алешка! Мы в ответе не только перед своей совестью, но и перед всеми людьми, перед теми с Сенатской площади, и перед теми с Марсова поля, и перед современниками, и перед будущими особенно. А высокие слова? Нам открыли глаза на то, что мешало идти вперед, – так надо радоваться этому, а не нудить, как ты. Теперь мы смотрим ясно на вещи и никому не позволим спекулировать тем, что для нас свято.
* * *
...Двое стоят, подняв воротники, на ветру. Им пока не много лет, и временами они чувствуют себя совсем мальчишками, но временами в хаосе весеннего разлива они оглядываются назад и смотрят по сторонам и вперед, смотрят вперед, выискивая тропу.
Глава 2
Саша вздохнул:
– А мне послезавтра двигаться в свою тьмутаракань. Последние каникулы, прощайте. Грустно!..
– Да не езди ты туда.
– Как это так?
– А так. Папа Зеленин надевает черную тройку, идет в горздравотдел, идет туда, звонит сюда – и дело в шляпе. Неделя угрызений совести в высокоидейном семействе, а потом жизнь продолжается. Вот и все.
– Не пори чепухи, Алешка.
– Тебе очень хочется ехать?
– Нет! – сердито отрезал Зеленин.
– Еще бы! Ведь ты горожанин до мозга костей, потомственный интеллигентик. Вот Косте Горькушину везде будет хорошо...
– Костя мечтал о своей Волге, а уехал в Якутию.
– Потому что в Якутии двойные оклады и надбавка.
– Нет, не поэтому, – твердо сказал Зеленин.
Максимов повернулся к другу. Тот сидел на железной ступеньке, по пояс высовываясь из воды, белесый, тощий и вдохновенный.
– Мальчик, вернись на землю. Да-да, на земле существуют оклады, простые и двойные, и, кроме того, прописка. Уезжающим в Якутию хоть прописка бронируется. Ты говоришь, что место судового врача перехватили, но Якутия-то осталась!
– Прописка – не приписка. Почему я должен дрожать над ней? Это меня унижает.
– Ну хорошо. Ты же знаешь, что я не только это имел в виду. Ты же будешь в медвежьей дыре, в глухомани, хотя и недалеко от Ленинграда. Якутия все-таки экзотика, просторы...
– Я тебе правду скажу. Никто у меня места не перехватывал. Просто на распределении я услышал, что в этом поселке два года не было врача, и попросил туда назначение.
В сумерках они шагают по шоссе. Как всегда, в ногу. Над курортным районом динамики разносят ухарский голос и торопливое бормотание гитары. В то лето по всему побережью победоносно, как эпидемия, прошел «Мишка, где твоя улыбка?».
Максимов орет:
– Я сойду с ума! Автора бы мне, автора бы!
– Шире шаг! – командует Карпов. – Шумно в строю!
«Все в порядке, – думает Максимов. – Мы шутим. Мы вместе идем на танцы. Нам девятнадцать лет. Эге, уже не то: каждому по двадцать четыре. И в последний раз так, вместе...»
По сторонам, где редеет лес, мелькают огни дач. Трое идут, как всегда, как и раньше, оставляя за спиной картинки постороннего тихого быта. Какая-то решимость сквозит в их движениях. Откуда она? Да нет, просто они идут на танцульки, просто приподнятое настроение, просто каждому всего двадцать четыре года.
…В репродукторе что-то загудело, что-то лопнуло, и потекла изломанная мелодия танго «Кумпарсита».
– Пойдем, что ли? – с жалкой развязностью сказал Бондарь.
Владька многозначительно улыбнулся, Максимов щелкнул каблуками.
– Нет уж, простите, – сказал Зеленин и решительно взял девушку под локоть. Она подняла на него изумленные глаза и пошла вперед, в гущу танцующих. «Что со мной? – подумал Зеленин. – Что со мной происходит?» Синие, темные, как весенние сумерки, глаза смотрели на него вопросительно и ободряюще, смотрели хорошо. Он начал говорить и говорил без умолку, словно боялся, что молчание спугнет девушку. Они кружились, топтались в толпе, смотрели друг на друга, и лишь иногда в поле их зрения попадали громадные ели, уходящие в звездное небо, и лишь иногда сквозь парфюмерные испарения толпы прорывался к ним таинственный ветер залива, и лишь иногда они понимали особое значение этих минут. Они танцевали танец за танцем, а потом спустились с площадки и исчезли.
…В первом часу ночи они лежали на даче в темноте и курили, когда воровато заскрипела лестница под окном и на фоне глубокого прозрачного неба появился контур Зеленина. Звездный свет блестел в его очках.
– Те же и Дон-Жуан! – проворчал Максимов.
– Какая девушка! Ах, какая девушка! – сказал Зеленин, не слезая с окна.
– Ложись спать, Паниковский!
– Целовались? – спросил Владька, пытаясь скрыть зависть.
– С ума сошел! В день первой встречи? Мы говорили. О многом, обо всем. Но, увы, она москвичка и учится в МГУ, а я уезжаю в Круглогорье. Увы!
Фанфары молчали
Первый день работы. Первый день трудовой деятельности. Первый день самостоятельной жизни. Обычный жаркий августовский день. Не гремели фанфары с небес, и даже тучные, усталые деревья не шелохнулись. Начался этот день с аудиенции у начальника.
Максимов, Карпов и Петр Столбов сидят на диване. Черное клеенчатое великолепие кабинета несколько подавляет их. Начальник за столом выглядит иначе, чем на распределении. Он строг, суховат.
– Трудности неизбежны, – говорит он. – Я говорю это вам для того, чтобы вы не настраивались на легкую жизнь, а потом не хныкали и не помышляли об уходе. Нам нужен крепкий кадровый костяк, а не гастролеры.
Начальник вырывает лист из блокнота, что-то пишет.
– Пока я откомандировываю вас в распоряжение санитарно-карантинного отдела. Там у меня опытные специалисты. Они познакомят вас с санитарной техникой судов и с нашими гигиеническими установками. Что? Хотите заниматься хирургией? Никаких совместительств! Это мне не нравится, товарищ Карпов.
Как лечебники вы не снизите квалификацию. Вы сможете периодически повышать ее в нашей клинической больнице. Но главное в морской медицине – про-фи-лак-тика. Ясно? Ну, вот. Сейчас идите в отдел кадров заполнять выездные дела. Анкеты, пожалуйста, пишите четко – папа, мама и тэдэ. Бабушек сейчас вспоминать не нужно. Жить будете в порту, на Карантинной станции. Отправляйтесь, друзья, и за работу.
Анкеты, автобиографии, справки и характеристики, разговоры в бухгалтерии, звонки по телефону, знакомства, рукопожатия, и вот рабочий день кончается. Максимов, Карпов и Петр Столбов идут к порту. Жарко. В середине августа всегда жарко.
Порт
Максимов и Карпов поселились в угловой комнате. Одно громадное окно смотрело на запад, два других на юг. Только узкие простенки прерывали сплошную линию стекла. Не вставая с постели, можно было наблюдать работу кранов на Западной дамбе и Кирпичном молу, движение судов на рейде. Столбов презрительно заявил, что это не комната, а бутылка. Без пробки к тому же.
Максимов пошел в кладовую за чайником. Кладовщица сидела за столом. К уху ее опереточным соблазнителем склонился Карпов. Он небрежно кивнул Максимову:
– Забирай обстановку, Макс.
«Бутылка» приобрела обжитой вид. Два письменных стола, отделанных полированной фанерой, и приемник «Нева» придавали ей комфорт. Роскошное Владькино одеяло и настольная лампа создавали уют. Картина «Мишки в лесу» вносила в быт успокоительное ощущение близких перемен. На стены были брошены текущие лозунги: «Больше Баха, меньше джаза» и «Работай над обменом своих веществ».
…Кончался август, но солнце продолжало безраздельно царить над Финским заливом Балтийского моря. Лишь по ночам ехидный ветерок намекал на то, что по его стопам движутся передовые отряды осени. Максимов писал письмо Зеленину:
«...Иногда я просыпаюсь с чувством, что мимо меня проходит какой-то массивный сгусток энергии. Поднимаюсь на локте и вижу: прямо под нашими окнами скользит в темноте тяжело груженное судно. Два-три огонька горят на нем, бредет по палубе какая-то фигура. Судно поворачивается кормой, кто-то чиркнул спичкой, кто-то бросил окурок в воду. Прощай, земля, до новой встречи! Никогда я не перестану считать тебя лопухом, дорогой Сашок. Почему не сообщаешь о своих подвигах на сельской ниве? Сеешь ли разумное, доброе, вечное? Сей, милый, засевай квадратно-гнездовым методом! Серьезно, черт, пиши. Мы по тебе скучаем».
Глава 3
Райздравский «Москвич» выбрался на дорогу, несколько раз моргнул красными огоньками, словно прощаясь, рванулся и сразу исчез за поворотом. В лесу, вероятно, было уже совсем темно: шофер зажег фары. Дымящееся световое облако поплыло по елкам. Вскоре скрылось и оно. Зеленин некоторое время еще смотрел на дорогу. Она белела в густых сумерках и казалась ровной и удобной. Но Зеленин уже испытал на себе ее качества и сейчас с тоской подумал, что зимой эта безобразно разбитая колея станет единственной жилкой, соединяющей Круглогорье с внешним миром, со станцией железной дороги, с районным центром, с Ленинградом. Шоссе что надо – зимой заносы, весной разливы, только летом можно благополучно отбить себе печень.
Зеленин спустился с крыльца и побрел через больничный двор к флигелю, где находилась его докторская квартира. Квартира была непомерно велика и пустынна. Долгие годы до революции ее занимал земский врач с многочисленными чадами и домочадцами. Последние два года комнаты пустовали. Перед приездом Зеленина кто-то попытался придать им жилой вид – в столовой на окнах трогательно белели бязевые занавесочки.
Сегодня, когда он вылез из райздравской машины, на крыльцо больницы вышла очень молоденькая девушка с удивительными льняными волосами, медсестра Даша Гурьянова.
«Да ведь это же Любава! – подумал склонный к подобным параллелям Зеленин. – Такие женщины снаряжали челны новгородцев, ткали лен, тянули в голос грустные песни, а в лихую беду волокли на башни камни и кипящую смолу».
Ночь в их ленинградской квартире – это всегда приятно: за стенкой скрипит пером папа, а на полу дрожат уличные огни. А тут... Почему это темнота так подозрительно сгущается там, в углу? Кто-нибудь вышел из той комнаты? Кто-то совсем не такой, как все... Ха-ха, рыцарь, вы, кажется, начали бояться темноты?
Саша долго лежал в темноте с открытыми глазами, и ему казалось, что он о чем-то напряженно думает. О чем же? На самом деле перед ним просто возникали очень непоследовательно картины двух последних суток. Речная пристань и райздравский «Москвич» на высоком шасси, огоньки на берегу, и он сам, Зеленин, стоит один на длинной палубе теплохода, мама и папа, такие стойкие, что сердце рвется, и друзья – поют, черти! – и Даша. Инна улыбается и поправляет волосы. Даша улыбается и поправляет черный цветок на груди. Лешка Максимов стоит на молу, весь красный, как индеец, и разглагольствует о неведомой стране. И не видит вокруг себя этой страны. А он, Зеленин? Вот приехал сюда, хотя мог... Ну, уж Ионычем-то он никогда не станет. Гражданский долг... Смешно? Инна, ты тоже будешь смеяться? Вот ведь какие девушки ходят по земле! А Даша? Тоже ничего. Любава. Лен. Челны. Цветы. Долой черные цветы! В окнах черно. Долой! «Завтра начну с историй болезней», – отчетливо подумал он и заснул.
Первый блин
Зеленин не собирался отступать от своих городских привычек. Утром он открыл все окна и приступил к гимнастике. Во время «прыжков на месте» вдруг молниеносно налетели легкие шаги, распахнулась дверь, и на пороге появилась Даша.
– Ой! – вскрикнула она, увидев застывшего в нелепой позе доктора.
Секунду они смотрели друг на друга, вытаращив глаза. Потом Зеленин начал делать суетливые, дурацкие движения, а Даша юркнула за дверь. Саша почувствовал тоскливый стыд, увидев себя глазами Даши. Застывший в журавлиной позе, очкастый, тощий верзила в длинных неспортивных трусах. Как назло, сегодня он раздумал надеть голубые волейбольные трусики. Пытаясь унять дрожь в коленях, он крикнул:
– В чем дело?
– Больного привезли, доктор, – слабо ответили из-за двери.
– Сейчас иду.
Торопливо натягивая брюки, он смотрел в окно. Даша, пробегая по двору, все-таки прыснула в ладошку.
Больной, вернее, раненый лежал на кушетке в предоперационной. Лицо его, белое, как лист бумаги, было покрыто капельками пота. Тяжелая узловатая кисть свисала на пол. Зеленин схватил пульс – нитевидный! – поднял веко: зрачки слабо реагируют на свет; выпрямился и только тогда увидел огромную, всю пропитанную кровью повязку на правом бедре. Шок!
– Что с ним случилось?
– Электропилой зацепило. Это Петя Ишанин с лесозавода.
– Камфару, кофеин! И готовьте систему для переливания крови. Рану сейчас начнем обрабатывать.
Когда Зеленин вымыл руки и вошел в операционную, повязка с ноги пострадавшего была снята. Огромная, все еще кровоточащая рана зияла на бедре. В одном месте свисали аккуратно вырезанные пилой лохмотья кожи. Даша, сосредоточенная, со сжатыми губами, протянула шприц.
– Вы сможете проверить группу крови? – шепотом спросил ее Зеленин.
– Да, нас учили, – так же шепотом ответила она.
– Сделайте и покажите мне, а я пока попытаюсь остановить кровотечение.
Он наспех обколол рану новокаином и стал накладывать зажимы. Краем глаза он следил за точными движениями сестры. Группа крови оказалась третьей. Даша придвинула к столу систему для переливания и протянула Зеленину иглу. Он ввел ее в вену и взглянул в лицо больному. Глаза того были открыты и устремлены в потолок.
– Ну как, брат? – бодреньким докторским тоном спросил Зеленин.
– В порядке, – тихо ответил парень.
Зеленин начал иссекать скальпелем края раны и совсем успокоился. Собственно говоря, он и не волновался: у него не было ни секунды для того, чтобы поволноваться. Но теперь, когда раненый выходил из шокового состояния и обработка шла успешно, появилось такое чувство, словно его, как станок, перевели на меньшее число оборотов. Про себя он даже начал что-то насвистывать. Чуть рисуясь перед Дашей, он лихо наложил последние швы, выпрямился и глубоко вздохнул. Только сейчас он понял, что действовал почти с автоматической четкостью, ни на секунду не усомнился в своем умении. Все-таки институт крепко вбил в него врачебные навыки и инстинкты.
– Я вернусь через двадцать минут, – сказал он сестре.
С радостным чувством вышел на крыльцо и вздрогнул, словно от удара током. Противостолбнячная сыворотка! Ее же надо ввести в первую очередь! Сколько раз им повторяли это на цикле травматологии. Он бросился назад, распахнул дверь в дежурку и уставился в спокойные глаза Даши.
– Я... я... я говорил вам, чтобы вы ввели противостолбнячную сыворотку? – Первая часть этой фразы прозвучала жалко, а конец сурово. Тут же он почувствовал отвращение к самому себе: «Подлец, хочешь свалить вину на эту девочку?» Он открыл было рот...
– Да, Александр Дмитриевич, вы говорили, – сказала Даша. – Я ввела. Вот и серия записана.
Зеленин прислонился к притолоке. Они понимающе улыбнулись друг другу, и он понял, что она никому не расскажет, в каком смешном виде застала его сегодня утром. И вообще на нее можно положиться.
Волноваться Зеленин начал во время обхода больных. Было несколько чрезвычайно сложных случаев. Без лабораторных данных невозможно разобраться, а лаборатория не работает за неимением лаборанта. Значит, придется самому осваивать лабораторную технику, а ведь он даже забыл, как считать лейкоцитарную формулу. Сколько придется читать! И с кем посоветоваться? Не с фельдшером же!
Зеленин испытывал страх. Как он будет лечить этих людей? Стремясь заглушить беспокойство, он стал увлекаться новокаиновыми блокадами. Во время работы шприцем или скальпелем он всегда успокаивался. Есть под рукой что-то осязаемое, и сразу можно видеть результат. Но терапия без анализов... На третьем курсе профессор Гущин как-то сказал студентам: «Chirurgia est obscura, terapia – obscurissima». Слова этого старого, чуточку циничного врача тогда изумили их. Томографы, электрокардиографы, аппараты для исследования основного обмена, самое сложное и самое современное оборудование было у них на вооружении. Им казалось, что достаточно только овладеть этой блестящей техникой, и все тайны будут раскрыты. Но сейчас Зеленин чувствовал себя словно древний мореплаватель, только что миновавший Геркулесовы столбы. Безбрежный, неведомый океан колыхался перед ним. И его надо было пересечь. Здесь, в Круглогорье, он как будто переселился в прошлое, трансформировался на несколько десятилетий назад.
Вот уже больше трех лет фельдшер Макар Иванович благополучно обходился без рентгена и лаборатории. К нему стекались больные из дальних лесных командировок, с лесозавода, из деревень, приходили матросы с проходящих судов. Макар Иванович врачевал без страха и сомнения. В райздраве он славился лихостью своих диагнозов. Перебирая старые истории болезней, Зеленин то и дело натыкался на такие, например, перлы: «Общее сотрясение организма при падении с телеги».
...В конце недели Зеленин собрал производственное совещание. Пришли все: пять медсестер, фельдшер, санитарки, бухгалтер, завхоз и кучер Филимон. Все эти люди, тесно переплетенные родственными и кумовскими связями, со скрытой насмешкой, с любопытством и недоверием поглядывали на чужака, на беспокойного худого юношу, который теперь стал их начальником. За те два года, что прошли со смерти Клавдии Никитичны, последней докторши, проработавшей в Круглогорье несколько лет, персонал привык к тишине и спокойствию. Больных было мало, потому что всех мало-мальски серьезных отправляли за сорок километров, в район. Для того чтобы выполнить план койко-дней, Макар Иванович клал в больницу знакомых старушек и упражнялся на них в диагностике. Даша Гурьянова и Зина Петухова, вернувшись весной с сестринских курсов, написали письмо в райздравотдел: «Или давайте нам врача, или закрывайте больницу, а работать так – это не по-советски».
– Тише, товарищи! – «Р-р-руководитель», – подумал он и представил, как бы комментировали эту сцену его друзья. Стало совсем весело. – Товарищи! Наша больница является самым крупным лечебным учреждением на всем пространстве Круглогорского куста. Поселок Круглогорье, пристань, лесозавод, пять колхозов, лесные командировки – все это находится в районе нашей деятельности. Кроме того, как мне рассказали, в шести километрах от нас, у Стеклянного мыса, начинаются крупные гидротехнические работы. Пока там построят больницу, пока приедут врачи, мы должны наладить обслуживание этой стройки. Как видите, задачи перед нами стоят большие, и мы, как единственное лечебное заведение со стационаром на двадцать пять коек, должны быть на высоте. Но на текущий момент мы не на высоте, товарищи!
– В наш век телевидения и электроники мы работаем вслепую, без лаборатории, без рентгена. А между тем у нас есть и рентгеновский аппарат, и лабораторное оборудование. Я смотрел – все поломанное, грязное. В чем дело? Некому было заняться? Нет, товарищи, дело в равнодушии и косности. Вот вы, Макар Иванович...
Макар Иванович слегка вздрогнул и пошевелил сцепленными на животе пальцами. Полчаса назад он отобедал, и сейчас по голове его под белым колпаком, семеня ножками, бегали крохотные человечки, предвестники мягкой дремоты
– Вот вы, Макар Иванович, расскажите, как вы лечите, что вы назначаете больным на приеме?
– В зависимости от индивидуальных реакций организма, – ответил Макар Иванович и привычно напыжился. – От головы даю пирамидон, от живота бесалол...
– Клистиром еще Макар Иванович увлекается, – лукаво улыбнулась Даша.
– Макар Иванович! – воскликнул Зеленин. – Это недопустимо. Ведь так, наверное, во времена Чехова уже не врачевали. «От головы, от живота...»
– Мол-лодой человек, – сказал он после этого дрожащим голосом, – я тридцать лет здесь практикую, я... я... – он встал и неловко стал стаскивать с плеч халат, – я на фронте... знаете... Эх... постыдились бы!..
– Итак, товарищи, значит, мы должны наладить работу своими руками, и начать придется с рентгеновского кабинета и лаборатории. Правда, для ремонта аппарата придется вызвать техника из района. Григорий Савельевич, работу оплатим?
– Средства изыщем.
– Потом мы командируем кого-нибудь из сестер на курсы рентгенолаборантов. («Только не Дашу!») Снимки будем делать, товарищи! В лаборатории займусь я сам вместе с Дарьей Ивановной. Вы согласны, Дарья Ивановна?
Зеленин не только обедал в чайной, он заходил сюда почти каждый вечер. Сам себе он объяснял это «познавательным интересом», но понимал, что его влечет по вечерам в чайную что-то другое. Александр подолгу простаивал возле заляпанных грязью машин, проходил в чайную, садился поближе к шоферам, жадно прислушивался к их рассказам о городах, словно хотел убедиться, что кроме Круглогорья существуют на свете и другие населенные пункты. Но признаться себе в том, что галдящая забегаловка стала для него неким окном в мир, он не смог.
Ого, как вы непримиримы, рыцарь! От других вы требуете кристальной ясности, а сами скулите по ночам, как хлюпик. Интересно, долго ли я продержусь здесь? Оказывается, это пострашней, чем думалось. Как ни заполняй свой день, как ни мечись, неизбежно наступает час, когда остаешься совсем один и только черные глазища – окна. И завтра, и послезавтра, и послепослезавтра... Правда, не будь того матча с обувщиками, того вечера, танцев, сейчас мне было бы не так тоскливо.
«...В первый день мне предложили гордость здешней кухни – „гуляш со сбоем“. Несмотря на известную тебе любовь к экзотике, я все же осторожно уклонился и попросил честную котлетку. Котлетка оказалась действительно честной – в ней было больше мяса, чем хлеба. Сюда бы наших институтских поваров для обмена опытом. Я влюблен в здешних людей. Мужики все рыболовы и охотники, суровые, кряжистые. Женщины, ну, женщины самые обыкновенные, но есть и удивительные. Но дети, Макс! Я раз шел мимо детского садика, заглянул через забор и ахнул: спелая рожь с васильками! Как мне кажется, народ здесь удивительно честный. Правда, говорят, что пьют по праздникам зверски, но я пока ничего из ряда вон выходящего не видел.
Я ничем сейчас не занят, кроме работы. Ежедневно на приеме до сорока человек. Округа гудит слухами о «ленинградском докторе». Стекаются болящие и неболящие – провериться. Восстанавливаю лабораторию и рентген. Все это было запущено, заброшено до омерзения. В общем, работы столько, что не остается времени для студенческих сомнений, для грусти...»
В дверь бухнули сапогом, и появился Филимон, больничный кучер. Он откинул капюшон, вытер мокрое лупящееся лицо, весело подмигнул буфетчице и протопал к столику Зеленина.
С Филимоном у Александра за неделю уже установились простецкие, дружеские отношения. Легкий был человек Филимон. Находясь частенько под хмельком, он считал, что весь мир населен такими же, как он сам, покладистыми мужиками, не дураками выпить и подзакусить. За сорок лет жизни он так и не разубедился в этом.
– Слышь, Митрич, – сказал он Зеленину, – председатель наш тебя вызывает.
– Какой председатель? – удивился Зеленин.
– Ну, Самсоныч – председатель совета. Сейчас в больницу телефонил. Прошу, говорит, доктора прибыть в пятнадцать ноль-ноль. Поехали?
… – Я, доктор, собственно говоря, просто хотел с вами познакомиться. Вы уже больше недели здесь, а к нам не зашли.
– Работы очень много, – сказал Зеленин.
– Да-да, работы у вас много, я знаю. И вот по части вашей работы у меня есть к вам дело. Поступил, так сказать, сигнал. – Он посерьезнел и застучал пальцами по столу. – Прошу правильно меня понять. Речь идет о фельдшере Завидонове.
Зеленин вздрогнул:
– Да, и что?
– Я говорю с вами совершенно неофициально, прошу понять. В порядке дружеского совета. Зря вы обидели старика. При всех. Негуманно это.
Александр сидел, задрав подбородок, сжав ручки кресла, и медленно краснел.
– Вы еще мало знакомы с нашей жизнью, – продолжал председатель. – Макара Ивановича тут по меньшей мере треть детей крестным зовет. А скольким он, извиняюсь, пуповину перевязывал! Вы не знаете? А здесь все знают, и все его любят.
Зеленин резко повернулся в кресле.
– А вы знаете, как он лечил своих благодарных земляков?! – воскликнул он. – Неправильно, нелепо, по старинке! Я сам вижу, что Макар Иванович хороший человек. Поверьте, хорошего человека сразу видно. Но закостенел, застыл, работает на авось. Понимаете? А я не могу этого допустить. Вы говорите о гуманизме, но я по-другому понимаю это слово. Да, я обидел, оскорбил этого старика, но я думал о десятках и сотнях больных.
– Да, гуманизм... – протянул председатель, – сложное понятие.
Глава 4
Все флаги в гости
Максимов стоял на причале возле нефтебаков. Рядом попрыгивал шофер Петров со своей странной улыбкой, обнажающей десны. Эта улыбка делала его лицо зловещим, но на деле Петров был безобидным суетливым мужичком, самым бойким шофером санитарного отдела.
– Видать, Леша, по штормтрапу тебе лезть придется, – сказал он.
Они смотрели на приближающийся черный, облупленный борт теплохода «Новатор», пришедшего с острова Кубы с грузом сахара. На причал полетели швартовы, и чей-то голос прогудел в мегафон:
– Доктор, по штормтрапу влезете?
Максимов махнул рукой: давай, давай! Он подошел к краю причала и заглянул вниз. Там, между бортом судна и сваями, тяжело качалась маслянистая вода. А наверху ухмылялись краснокожие матросы.
«Уверены, что я не полезу, пока теплоход не встанет вплотную к стенке. Наверно, думают: „Сухопутный хлюпик, карантинщик“. Эх, где наша не пропадала!»
Он с силой оттолкнулся от причала и, пролетев метра три в воздухе, вцепился в веревочную лестницу. Позади слабо ахнул Петров. Максимов на миг опустил глаза, увидел черную щель и содрогнулся, представив, как он барахтался бы в холодной грязной воде, как его сплющило бы в лепешку.
«Идиот я, самый последний идиот. Чего ради?»
Он перелез через борт и прочитал на лицах моряков насмешку.
– Где чиф? – спросил он сурово.
– Я здесь, доктор. – С палубы спардека спускался высокий молодой человек в синей тужурке. Он приветливо улыбнулся и протянул руку: – Перов.
– С благополучным прибытием! Есть на судне больные? – произнес Максимов две первые стандартные фразы и удивился, услышав ответ:
– Двух больных привезли.
– Да ну? Что с ними?
– Понимаете, доктор, стрела сорвалась и шарахнула одного парня по ноге. Кажется, перелом. А что со вторым, не знаю – температура высокая. Хотите, пройдем в лазарет?
Они полезли вверх. Сзади кто-то тихо сказал:
– Тарзан.
Максимов резко обернулся. Моряки молча улыбались. Старпом взял Алексея под руку и повел по декам, переходам и коридорчикам, по дороге оживленно рассказывая. Видимо, был рад свежему человеку.
– Рейс был не из приятных. В океане штивало по-дикому, да и на Балтике у нас осенью, сами знаете. Вы, кажется, плавали на «Ползунове»?
– Я еще только собираюсь плавать.
– Вот как? Тогда милости просим к нам. Наш старик скоро на пенсию уходит. Серьезно, доктор, проситесь на наш дубок. Народ у нас классный.
– На этой железной скорлупе дубовые люди живут? – съехидничал Максимов и тут же испугался, что старпом обидится. Но тот отпарировал:
– Зрелище было необычайное – такой резвый доктор...
Он открыл какую-то дверь и пропустил Максимова вперед.
Это был лазарет. Вдоль переборки в два яруса стояли четыре койки. Напротив, у наклонной стенки, была еще одна, на которой лежал человек с подтянутой на вытяжение ногой. Стоявший спиной к дверям человек в белом халате обернулся. В руках у него шприц. «Пенициллин, должно быть, колет», – подумал Максимов. Он удивленно отметил, что с удовольствием вдыхает привычный больничный запах и что ему приятно видеть застекленный шкафчик с медикаментами, биксы, кипящий стерилизатор. Судовой врач, жилистый, загорелый старик, смотрел на него нудно и боязливо.
– Вот вытяжение соорудил, – сказал он виновато, показывая на больного с поднятой ногой. – Не знаю, правильно или нет. На курсах давно не был, забывается все, знаете ли. А вы, коллега, кажется, в Бассейновой клинике работали?
«Один меня принимает за моряка, другой за клинициста, а я всего лишь жалкий пошляк. А может быть, издеваются?» Алексей подошел к койке, для отвода глаз потрогал ногу и сказал баском:
– Правильное вытяжение.
Старик явно повеселел.
– Может быть, и второго заодно посмотрите? Я диагностировал пневмонию справа, но, знаете, в наших условиях, без рентгена...
«Удивительно, до чего он не уверен в себе! Старый врач, стаж, должно быть, лет сорок, и заискивает передо мной, молокососом. Про клинику, должно быть, ввернул только для подхалимажа».
Со вторым больным было проще: в трубочке явственно трещали хрипы.
– Нужно немедленно обоих отправить в больницу, – сказал Максимов.
После лазарета он в сопровождении старпома и судового врача обошел все судно, осмотрел каюты, машинное отделение, кладовые, камбуз. Здесь он долго и придирчиво изучал колоду для рубки мяса. У каждого карантинного врача был свой конек. Старый доктор Дампфер, наставник Максимова и Карпова, особенно был пристрастен к колодам для рубки мяса. Обычно он самым тщательным образом выискивал на них трещины, дико орал на кока, если колода не была засыпана солью, а те суда, которые не обзавелись этим полезным инвентарем, просто не выпускал в рейс. Считая себя представителем школы Дампфера, Максимов тоже наорал на повара, приказал заменить колоду. Потом он прошел в каюту старпома для составления и заполнения многочисленных бумаг.
На палубе «Герцога Нормандского» так же, как и на «Новаторе», болтались свободные от вахты матросы. Стройный негр, от щиколоток до горла покрытый «молниями», сверкнул снежной улыбкой и приложил два пальца к непокрытой голове. Максимов объяснил ему, что он хочет видеть капитана. Негр щелкнул пальцами, предложил следовать за ним. Вместе с негром пошли еще два каких-то парня. Они показывали друг другу на Максимова, легонько похлопывали его по плечу и приговаривали:
– О, стьюдент, стьюдент – хорошо!
Максимов строго сказал, что он не студент, а доктор, что он уже давно окончил медицинский институт. Ребята, кажется, ничего не поняли, бешено захохотали, хлопнули его посильнее: «О, стьюдент! Вери велл!» Сухопарый кэптен поднялся ему навстречу, протянул руку, довольно долго что-то говорил. Максимов различил только «садитесь, пожалуйста» и несколько раз повторенное слово «сэр». Это он-то, Леха Максимов, сэр? Набравшись духа, он прополоскал рот двумя десятками английских слов. Капитан, сморщив лицо, слушал, а потом спросил:
– Ду ю спик инглиш? Френч? Джерман?
Вот когда Алексей начинал жалеть о тех временах, когда манкировал занятиями по иностранному и нагло переписывал у девочек словари «внеаудиторки».
Глава 5
– Кто звонит? – спросил он, ожидая увидеть в ответ многозначительную улыбочку.
– Вас спрашивает председатель поселкового совета.
Зеленин взял трубку:
– Я слушаю.
– Привет, товарищ Зеленин. Неприятные новости. На Стеклянном грипп людей косит, пятьдесят процентов бульдозерного парка из-за этого простаивает.
– Да-да, я знаю. Как раз сегодня туда собирался.
– Я тоже сегодня туда еду по вопросу жилищного строительства. Могу вас подбросить.
– Очень хорошо.
Главный инженер провел ребром ладони по горлу:
– Вот так горим, доктор. Процентов сорок народу свалил этот нежелательный иностранец – господин Грипп. Но, между прочим, подозреваю, что часть людей просто симулирует под этим флагом. Понимаете, фельдшер у нас очень уж робкий.
– Чего там, Юрий Петрович!.. – обиженно прогудели из угла.
– Точно я говорю: робеешь. Парнюги у нас, доктор, тут есть задорные, из числа бывших заключенных несколько позатесалось. Обстановка сложная, что и говорить.
Из двенадцати человек у четырех была повышенная температура, у остальных нормальная, но все, кроме Бугрова, жаловались на головную боль, ломоту и дурноту.
Зеленин сказал:
– Грипп сейчас принимает необычные, атипические формы. Он может протекать и без температуры. Поэтому я не могу точно сказать, кто из вас действительно болен, а кто симулянт. Правда, один, – он взглянул в сторону Федора, тот, улыбаясь, показал ему огромный кулак, – правда, один явный симулянт. Я говорю о Федоре Бугрове. Он пытался меня шантажировать. А остальные... Это уже дело вашей совести.
Ибрагим соскочил с койки и босиком, в одном нижнем белье подбежал к Тимоше.
– Кусочник, ты говоришь? Раз лагерник, значит, не человек? Доктор, почему они меня презирают? Зовет на собрание, а сам за карман держится.
Тимоша усмехнулся:
– Что ты мелешь? Меня твое прошлое не интересует. Работал бы честно, и тебя бы считали человеком. Скажи вот, Ибрагим, болен ты?
– Здоров! – заорал Ибрагим. – Работать пошел, ну вас к черту!
– Вот она, современная молодежь, – вздохнул фельдшер.
– «Современна-а-я», – передразнил его Тимоша. Он был очень возбужден. Сказав, что в остальных бараках народ сознательный, попрощался с Зелениным и прыгнул на подножку проходящего самосвала.
Зеленин работал вместе с фельдшером несколько часов. Он назначил лечение всем больным, наиболее тяжелых распорядился отправить в больницу. Закончив обход, они пошли в контору.
Глава 7
Вечером в клубе
«Таким образом, суммируя все сказанное, можно сказать, что алкоголь неблагоприятно действует на все органы и системы организма».
Сегодня Зеленин за все время пребывания в Круглогорье впервые надел белую, накрахмаленную еще в ленинградской прачечной рубашку и новый галстук с горизонтальными полосками. Он выступал с докладом «Алкоголь – разрушитель здоровья» в устном журнале, который ежемесячно устраивался в клубе. Доклад никуда не годился. Это был тот тяжелый случай, когда, как говорится, нет контакта между лектором и аудиторией. Слушатели сначала добродушно похихикали, а потом застыли в вежливом оцепенении. Даже Егоров, сидевший в первом ряду, несколько раз подносил руку к лицу, пытаясь скрыть зевоту. Зеленин бубнил по бумажке все быстрее и быстрее. Скорей бы кончить это позорище.
– В борьбу с алкоголизмом должна активно включаться общественность! – с жалким пафосом выкрикнул он последнюю фразу, вытер платком горевшее лицо и спросил: – Вопросы будут?
– Сам-то, доктор, совсем не употребляешь? – пробасили из зала.
Послышался смех. Зеленин растерялся. Зачем-то снял очки и, близоруко щурясь, пролепетал:
– Я... умеренно... и если повод, так сказать.
Зал загрохотал. Люди смеялись беззлобно, даже как-то облегченно, словно радуясь, что вот человек выполнил скучную обязанность, отбарабанил что-то по бумажке и снова стал самим собой.
– Повод найти можно, – прогудел бас, – заходи, пунчику тяпнем.
В третьем ряду вскочила сухопарая женщина, жена больничного кучера Филимона.
– Извиняюсь, конечно. Вы говорили, излечимый он, алкоголь-то?
– Да-да, алкоголизм излечим.
– Полечили бы вы, Александр Дмитриевич, мужика моего. Совсем совести лишился, ни мне, ни детям жизни не дает. Я уж ему говорю: стыдись, ирод, хоть ты и при коняге, а ведь тоже медицинский работник!
– Тут нужно добровольное согласие, Анна Ивановна. Я со своей стороны гарантирую успех.
Зеленин сошел с эстрады и сел в первом ряду около Егорова.
– Жалко я выглядел, Сергей Самсонович? Да брось, не утешай.
– Суховато, Саша. Ну ничего, первый блин... Лиха беда начало и так далее. Не унывай.
Он вдруг захохотал:
– А вот бы Филимона вылечить! Посильнее любого доклада подействует.
– А что? Надо попробовать.
– Вряд ли получится. Он мужик идейный.
– На этом мы закрываем последнюю страницу нашего журнала. Приступаем к танцам, – светским тоном объявила с эстрады редактор устного журнала, учительница средней школы.
– Вот это дело! – опять прогудел знакомый Зеленину бас.
В это время в толпе у дверей послышался грохот. Даша вздрогнула и быстро просунула свою руку под локоть Зеленину. Пальцы ее судорожно сжались. Раздвинув толпу, на середину зала вышел в сопровождении товарищей Федька Бугров. Он расставил ноги в хромовых сапогах, смятых в гармошку, и повел мутным взглядом вдоль стен. Из-под низко натянутой на глаза кепочки-«лондонки» набок свисала золотистая челка. Шевелилась гладко выбритая, юношески округленная челюсть, елозила в зубах мокрая папироска. На Федьке был синий костюм отличного бостона. Распущенная «молния» голубой «бобочки» открывала ключицы и грязноватую тельняшку. Все эти детали Зеленин заметил отчетливо, потому что Федька довольно долго стоял на месте, молча созерцая толпу и покачиваясь. Давно уже играла музыка, но никто не танцевал. Наконец Федька улыбнулся и медленно направился прямо к Зеленину.
– Здорово, врач, – сказал он, прикладывая два пальца к козырьку кепочки, – давно не видались. С того самого моменту, как меня по твоему указанию в симулянты записали.
Зеленин молчал, с ужасом чувствуя, что его вновь охватывает отвратительное ощущение трепещущей жертвы перед лицом палача.
– А ты, я смотрю, стильный малый, – хохотнул Федька и легонько подбросил пальцем зеленинский галстук. Затем он улыбнулся Даше. – Дашутка, парле ву франсе, сбацаем танго?
– Нет, – сказала Даша, крепче вцепляясь в руку Зеленина.
– Чего там! – заорал Федька, схватил ее за плечи и, оторвав от Зеленина, потащил в центр зала.
Здесь он облапил ее правой рукой за спину, левую оттянул предельно вниз и назад и пошел мелкими, томными шажками. Так танцует шпана на ленинградских и загородных площадках. Девушка рванулась было, но Федька держал ее цепко. Его согнутая громадная фигура с широченными плечами и похабно раздвинутыми ногами напоминала паука, поймавшего ненароком бабочку.
Зеленин поправил очки, отчетливо прошагал через весь зал и сильно хлопнул Федьку Бугрова по плечу. Тот мгновенно выпустил девушку и резко обернулся.
– Прошу вас немедленно удалиться, – сказал Зеленин. – Вы пьяны и безобразны.
Федька сделал шаг вперед. Александр невольно отступил.
– Я тебя бить не буду, сука! – процедил Федька. – Чего тебя бить? Загнешься еще. Я тебе шмазь сотворю.
Мускулы Зеленина напряглись. Так, как когда-то учил его Лешка Максимов, он шагнул в сторону, сделал «нырок» и правым боковым ударил Федьку в челюсть.
Такого исхода не ожидал никто. Бугров рухнул на пол. Беспомощно раскинулись по доскам могучие татуированные руки и хромовые сапоги. Кепочка упала рядом безобразно жалким, сморщенным комочком. А над телом поверженного врага встал в заправской боксерской позе длинный доктор из Ленинграда.
Опомнившись, бросились вперед бугровские дружки, но тут уже вмешался в дело Тимоша с компанией. Подгулявшие молодчики бережно и с прибаутками были выставлены на крыльцо. Туда же вынесли обмякшего, бормотавшего что-то несвязное Федьку.
Зеленин усмехнулся:
– Это иллюстрация к моему докладу. Человека в состоянии алкогольного опьянения нокаутировать нетрудно. Теряется чувство равновесия, мозг утрачивает власть над мышцами...
– Господи! За версту теперь чайнуху буду обегать. Чтоб мне век к коню не подойти! Убери с глаз долой проклятое зелье.
– Не думал я, Филимон, что ты такой слабохарактерный. Раз дал согласие – значит, надо лечиться. Нюхай, пей!
Вот уже неделю Зеленин лечил Филимона, вырабатывая у него по методу академика Павлова условный рефлекс отвращения к алкоголю. Филимон, посмеиваясь, лег в больницу. Однако вскоре он надулся важностью, видя, что к нему приковано внимание многих людей. На первом сеансе, когда Филимона после инъекции апоморфина пригласили в дежурку, Зеленин усомнился было в успехе своего предприятия.
При виде стоявшей на столе бутылки у кучера загорелись глаза, губы расползлись в блаженной улыбке.
– Александр Дмитриевич, чего ж ты мне подносишь, а сам ни-ни? Давай за компанию? По методу академика, а? Ну, как хошь.
Он бережно, щепотью, взял стопку, зажмурил глаза и хлестнул в рот сладостной влагой. Но апоморфин сработал безотказно.
Сейчас Филимон, одетый в чистую пижаму, розовый и благообразный, канючил над стопкой водки, как малое дитя над касторкой. Зеленин, олицетворяя собой железную стойкость науки, сидел в прямой позе, отсвечивал очками. Тоскливым оком Филимон поглядывал на стоящий на полу тазик, куда обычно низвергалась высшая фаза его отвращения к алкоголю. Посмотрел в окно. К больнице с озера мчалась подвода с бочкой. На бочке, строго поджав губы, сидела Филимонова женка, Анна Ивановна. На время лечения мужа она осталась «при коняге» и работала самоотверженно.
«Эхма! – подумал Филимон. – Кончил пить, начал обарахляться. Скоплю деньгу – куплю телевизор. Будем с женкой просвещаться. Эх, жизнь степенная!»
В отделе шел обычный трудовой процесс: стучали пишущие машинки, звонили телефоны, кричали и смеялись сотрудники. В коридоре стоял Владька и курил. Максимов подошел к нему:
– Ну, чем порадуешь?
– А! Все то же. Был в управлении. В клинику не отпускают. Приказали продолжать освоение гигиенических установок. «Вы оцените это в плавании, доктор Карпов».
После навигации Максимова перевели с карантинной станции в коммунальный сектор, а Карпова – в промышленный. Кончились бессонные ночи, штормтрапы и морские традиции. Стало скучно. Ходили слухи, что, прежде чем отправиться на суда, молодые врачи должны будут пройти через секторы отдела. Не смешно. Скорее мрачно.
Открылась одна из дверей, и в коридор вышел доктор Дампфер, высокий, сухой старик в морском кителе.
– Алексей Петрович, – позвал он, – хотите немного поработать?
Максимов бросил окурок и вошел вслед за ним в кабинет. Дампфер корпел над годовым отчетом. Приставленные друг к другу столы были завалены папками, справочниками и кипами пустографок.
– Я ведь ничего в этом не понимаю, – сказал Максимов.
– Ничего, разберетесь. Вы сообразительный, – усмехнулся старик.
– А что нужно делать?
– Для начала посчитайте тараканов.
– То есть? – опешил Максимов.
– Ну вы же сами писали в актах, когда обследовали суда: инсекты обнаружены или не обнаружены. Вот вам папка актов, вот списки судов. Просматривайте и отмечайте: где есть тараканы, ставьте крестик, где нет...
– Нулик?
– Правильно. Я же говорю, вы сообразительный.
– Вся премудрость?
– Да.
«Крестики и нулики, – думал Максимов. – Замечательно! Значит, я учил физиологию, биохимию, диалектический материализм, проникался павловскими идеями нервизма для того, чтобы считать тараканов? Здорово! Итак...» Паровая шаланда «Зея» – крестик, буксир «Каменщик» – нулик, водолей «Ветер» – нулик, теплоход «Ставрополь» – крестик...
– Ну как, дело идет? – спросил Дампфер, не поднимая головы от бумаг.
– Просто здорово! – воскликнул Максимов. Все клокотало в нем, хотя он спокойно сидел в кресле и перелистывал акты. «Проклятый старик, канцелярская крыса, знаешь ли ты, что я умею читать рентгенограммы и анализы, что я уже сделал самостоятельно три операции аппендэктомии и даже один раз ассистировал при резекции желудка? Знаешь ли ты, что профессор Гущин нашел у меня задатки клинического мышления? Наконец, знаешь ли ты, что я волнуюсь, когда слушаю музыку или читаю стихи, что я и сам немного пишу? Впрочем, если бы даже ты и знал все это, ты не постеснялся бы заставить меня считать тараканов. Что ты понимаешь в жизни? Что ты видел в жизни, кроме своих бумажек да колоды для рубки мяса?»
– Кажется, вам не особенно нравится эта работа? – вдруг спросил Дампфер.
– Я, между прочим, врач-лечебник, – ответил Алексей, последними усилиями сдерживая бешенство. Вдруг он вспомнил, что точно такое же, как сейчас, чувство было у него, когда тренер предложил ему поиграть во второй команде.
– Да-да, – рассеянно проговорил Дампфер и углубился в бумаги. Через некоторое время он снова спросил: – Вы знаете задачи карантинной службы?
– Чистота! – выпалил Максимов. – Борьба с грызунами, насекомыми и старшими помощниками капитанов. Правильно?
– Задачи карантинной службы – это охрана санитарной границы Советского Союза, – раздельно и торжественно проговорил Дампфер. – Мы пограничники, вы понимаете? Здесь мелочей нет. Одна чумная крыса может нанести больший урон, чем сотня шпионов, переброшенных через рубеж.
– А тараканы к какому количеству шпионов приравниваются? – съехидничал Максимов.
Дампфер коротко, автоматически хохотнул, как человек, которому рассказали очень старый анекдот.
– Я все понимаю, – поспешно сказал Максимов. – Конечно, это важно – карантинная служба. Мне она даже нравится, но...
– Вам нравится носиться на катере по порту и с риском для жизни прыгать по штормтрапам.
– Откуда вы знаете?
– А черновая работа вам не по душе. Зачем же вы тогда пошли на суда?
– Надеюсь, на судне не нужно будет ставить крестики и нулики.
– Вы так думаете? Там вам придется лично гоняться за каждым тараканом. Боюсь, что у вас превратное представление о работе на судах. Некоторые, я знаю, считают эту работу сплошной парти де плезир. Такие люди плохо кончают. А в море, Алексей Петрович, на нас, врачах, лежит полная ответственность за жизнь и здоровье пятидесяти или шестидесяти человек, занятых тяжелым трудом, оторванных от Родины, от своих семей. Вы понимаете эту простую истину? Вы не думайте, что это у меня только теоретические рассуждения. Я сам восемнадцать лет провел в море, шарик наш знаю неплохо.
Он закурил и уставился в окно, словно пытаясь что-то в нем разглядеть. Максимов впервые услышал от него столько слов сразу. Сейчас Дампфер как будто колебался, стоит ли продолжать. Наконец он посмотрел прямо на Алексея и сказал:
– Человеку очень важно понять простейшую вещь – свое значение и назначение в обществе. Тогда у него появится настоящее отношение к труду. Тогда он будет жить полной жизнью. Поясню свою мысль. Все человечество разделено на две части. Для одних день жизни – это полный день, день целиком. Для других из дня вычеркиваются шесть или восемь часов работы. Такие люди начинают ощущать себя только после того, как повесят номерок или распишутся в книге ухода. Прибавьте сюда часы сна. Сколько остается? А жизнь ведь у нас одна-единственная, такая короткая... Молодые часто этого не понимают.
– Молодые понимают, – сказал Максимов, – понимают, что короткая.
Неужели Дампфер позвал его сюда специально для душеспасительных бесед? Похоже на то. Что ж, поговорим!
– На мой взгляд, дело не в продолжительности, а в интенсивности жизни. Спринтер на стометровке расходует энергии и жизненной силы не меньше, чем бегун на дальние дистанции. И если человек, прозябающий на скучной работе...
– Скучной работы у нас нет, – перебил его Дампфер, – есть скучные, или недалекие, или еще не разобравшиеся люди. Разберитесь во всем, поймите свое назначение, проследите до конца цепочку, и любая работа станет вам по душе. Мы все в этом мире связаны и делаем сообща одно дело.
– Очень просто все у вас получается. Пойми, что ты звено в цепочке, и будешь радостно трудиться. Но ведь большинство людей не нашло себя. Вот и получается, что люди работают только для жратвы. А спасение для них – это так называемые посторонние мысли, чувства, ощущения в свободное время. Разве жизнь только работа? Это ханжество – так говорить. Есть другие великолепные вещи: музыка, стихи, вино, спорт, одежда, автомобили...
– Все это создано трудом, – спокойно вставил Дампфер.
– ...горы, море, закаты, женщины, – продолжал Максимов.
– Все это недоступно бездельникам, – сказал старик. – Таково мое твердое убеждение. Им только кажется, что они живут на полную катушку, а в конце никто из них не избежит ужасающего холода пустоты.
– А кто вообще его избежит? – выкрикнул Максимов. – Человек подходит к концу и думает: ну, вот и все. И зачем все это было? Что это я делал здесь? Мы философствуем, боремся за передовые идеи, лепечем о пользе общественного труда, строим теории, а в конечном итоге разлагаемся на химические элементы, как растения и животные, которые не строят никаких теорий. Трагикомедия, да и только. В народе говорят: все там будем. Все! И передовики производства, и бездельники, и благородные люди, и подлецы. А где это «там»? Нет этого «там». Тьма. И тьмы нет, тьма – это тоже жизнь. Какое мне дело до всего на свете, если я каждую минуту чувствую, что когда-то я исчезну навсегда?!
– Замолчите! – закричал Дампфер и ударил кулаком по столу. – Мальчишка, хлюпик!
Он вскочил, подошел к окну, встал спиной к Максимову. Видно было, что он что-то ломает в руках. Повернулся и поразил Алексея выражением своих неожиданно ставших громадными глаз.
– Простите меня. Я старик. У меня стенокардия. Я как раз, как вы сказали, смотрю назад. Что это я делал здесь? Я был в частях, штурмовавших Кронштадт, работал в море и на берегу – вот и все. Мне не страшно! Понимаете вы? Я работал для своих детей, и для вас, и для ваших будущих детей. В этом-то и есть наше спасение. Вы представляете, что случилось бы, если бы человечество поддалось панике, какой поддаетесь вы? Дикость, разгул животных инстинктов, алкоголизм, маразм. Я знаю, Алексей Петрович, такие минуты бывают у каждого, особенно в молодости, но человек на то он и человек...
Дверь распахнулась, и появилась сияющая физиономия Карпова.
– А, вот ты где! – воскликнул он. – Иди скорей получай зарплату. Не забыл, что у нас в четыре часа матч с судоремонтниками?
– А ты захватил мои тапочки? – спросил Максимов, торопливо вскочил и скрылся за дверью.
Минут через десять Дампфер увидел в окне обоих друзей. Они промчались, как два рысака, закусивших удила.
«Поговорили, – подумал Дампфер. – Так вот у них всегда, у молодых. Побежал на волейбол и все забыл».
...Дампфер ошибался. Алексей ничего не забыл. После разговора с Дампфером ему стало легче, хотя они оба не сказали всего, что хотели сказать. Он стал ждать весны, мечтать о теплых днях, когда защелкают у причалов флаги, когда он взойдет на борт парохода, и в день прощания прибежит Вера, и все сразу выяснится, и он будет знать. Ведь должен же кончиться когда-то путь через лед и тоску!
Амбарный вредитель
Максимов и Карпов зашли к главному врачу отдела поговорить «о жизни». Главный врач, рослая, до ужаса волевая и до восторга оперативная женщина, всегда находила время для проявления чуткости к подчиненным. Молодых врачей она называла почему-то «бедными мальчиками».
– Ну, бедные мальчики, что же мне с вами делать?
Карпов сразу же стал хныкать и просить, чтобы его отпустили куда-нибудь, хоть в самый плохонький хирургический стационар. Максимов, улучив момент, тактично спросил:
– Ирина Павловна, вы не располагаете сведениями относительно нашей отправки на суда?
– Раньше весны и не думайте об этом, мальчики. Зато когда откроется навигация, вы попадете на самые лучшие плавединицы. Уж я об этом позабочусь.
– Я деквалифицируюсь! – горестно воскликнул Владька.
– Перестань, Владислав! – сказал Максимов. – Руководство само знает, когда мы начнем деквалифицироваться. В нужный момент о нас позаботятся.
– А вы, оказывается, ехидный мальчик, – улыбнулась главный врач.
Аудиенция закончилась тем, что их опять «перебросили»: Максимова в пищевой сектор, а Карпова – в коммунальный. На следующий день Максимов приступил к новой работе. Завсектором, пожилой врач Лидия Аполлоновна, сразу засадила его за чтение бумаг.
– Возьмите вот эту папку и познакомьтесь с опытом работы доктора Столбова. Петр Леонидович прекрасно освоил нашу специфику.
Акты, копии протоколов о санитарном нарушении, переписка, анализы пищевой лаборатории, расчеты калорийности... А-а-а-вуа-а-а-а...
– Что, Макс, и ты стал столоначальником? – спросил Карпов.
– А, Владька! Полюбуйся-ка на деятельность нашего гениального однокашника. Осваиваю опыт передовика.
Странички исписаны готическим почерком Столбова. Акт обследования одного из складов Торгмортранса. Указывается, что в партии муки высшего сорта, предназначенной для отправки на суда дальнего плавания, обнаружен клещ – амбарный вредитель. Предписывается муку немедленно уничтожить и об исполнении доложить. Знай наших!
– Лидия Аполлоновна, а какие последствия вызывает этот вредитель?
– Какой вредитель?
– Тот, о котором сообщается в акте Петра Леонидовича.
Лидия Аполлоновна прочла акт и недоуменно пожала плечами:
– Странно, я ничего об этом не знала. Или забыла? Алексей Петрович, Столбова сейчас нет, поезжайте-ка вы на этот склад и проверьте на месте документацию. А клещ этот вызывает желудочно-кишечные расстройства. Вы можете прочесть об этом в книге профессора...
Максимов вышел на улицу и направился к воротам порта. За воротами грузовики превратили снег в грязную кашицу. Максимов голоснул и за пятнадцать минут на разболтанном «Язе» домчался до конца Западной дамбы. Здесь он спустился на лед, пересек бухту, взобрался на Кирпичный мол, прошел по нему до самого конца, вышел за пределы порта и проехал еще солидный кусок на трамвае. Склад находился у черта на рогах, на пустыре возле болота.
В сводчатом гулком помещении пахло сыростью. По проходу между ящиками и тюками блуждал маленький человечек в синем халате. Он метнул на Максимова быстрый взгляд и тут же поднял голову вверх, отвлеченно зашевелил губами, словно что-то подсчитывая. Максимов спросил на всякий случай:
– Вы заведующий?
– Врио, – бросил через плечо человечек. – А что, собственно?
– Я из санитарно-карантинного отдела.
Человечек быстро обернулся и пошел к Максимову с сияющей улыбкой на устах:
– Очень приятно, что не забываете. Ярчук.
Деликатно кружась вокруг, он провел Максимова в кабинет, усадил в кресло и сам сел напротив, не спуская с него любовного взора и быстро говоря:
– ...Больше имел дело с Лидией Аполлоновной и с доктором Столбовым. Очень, очень талантливый молодой человек. А теперь, значит, вы, доктор Максимов, нами, грешными, будете заниматься? Очень хорошо. Чем больше интеллигентных людей, хе-хе, тем лучше. Наука, она теперь... – Он на мгновение замолчал, и глаза его налились строгой влагой чудовищного уважения к науке. – Наука в наше время... Ах, доктор, в какое время мы живем! – Он снова зашелся от восторга.
Максимов молчал и старался смотреть как можно неприятнее. Он чувствовал, что Ярчук почему-то испуган. Молниеносные оценивающие взгляды словно рвались сквозь пелену идиотского быстрословия. Вдруг врио оборвал какую-то фразу и замолчал. Минуту в кабинете стояла тишина. Два человека смотрели друг на друга. Потом Ярчук завозился, открыл ящик стола и положил перед Максимовым коробку «Тройки», шикарных сигарет с золотым обрезом. Максимов хмыкнул и открыл свою пачку «Авроры».
– В настоящий момент вас что интересует? – легким тоном спросил Ярчук.
– Партия муки, в которой обнаружен амбарный вредитель, – ответил Максимов, не спуская с него глаз.
Остренькое лицо Ярчука мгновенно засияло, как пасхальное яичко.
– Списали, выполнили указание.
– Покажите документацию.
Читая акт о списании, Максимов почувствовал себя беспомощным. Почему-то ему казалось, что дело тут нечисто, но как добраться до истины сквозь чащу торговых терминов, оплетенную велеречивой паутиной Ярчука? Выглядит все законно: акт, отпечатанный на машинке, в конце три подписи. Максимов терпеть не мог неразборчивые подписи. Что это за люди, которые превращают свое имя в каракули усталого идиота?
– Тут есть и подпись вашего коллеги, – сказал Ярчук.
Максимову послышалась в его голосе насмешка. Он еще раз взглянул на акт. Что такое? Уж подпись Петечки-то он знает: готика! А здесь какой-то размотанный клубок ниток.
– Покажите мне накладные за тот месяц, – вдруг по какому-то наитию сказал он.
Ярчук всполошился:
– Зачем, доктор? Зачем вам накладные?
Максимов почувствовал, что нащупал в темноте твердую почву.
– Нет у меня здесь накладных. Они у бухгалтера, а он уехал в торг.
– Да нет, – теперь уже Максимов улыбнулся (он решил подчиняться только своей интуиции), – бросьте вы этот фарс! Они у вас в этом столе.
– Это что же, Лидия Аполлоновна, что ли, вас научила? – спросил Ярчук неожиданно тихим и враждебным голосом.
– Да, она.
– Ну что же, полюбопытствуйте, бдительный товарищ. Мне стыдно за вас. Пришли из нашего советского вуза, а доверия к честным тру...
– Помолчите-ка! – грубо оборвал его Максимов.
Он стал просматривать накладные на сахар, консервы, атлантическую и тихоокеанскую сельдь, сухофрукты, мороженую баранину, муку. Снова он ничего не понимал. «Глупишь, брат Максимов, ставишь себя в смешное положение». Вдруг ему пришла простая мысль: сверить даты в акте и в накладных. И вот среди накладных на муку, отправленную на разные суда, он натолкнулся на бумажку, в которой значилось, что такое-то количество муки высшего сорта отправлено на теплоход «Новатор».
– Значит, на «Новатор»?
– Это не та мука! – взвизгнул Ярчук. – Ту мы уничтожили, а взамен получили другую партию. Вы еще зелены, товарищ, ничего не понимаете! Смотрите. – Он стал сыпать бумажками и снабженческой абракадаброй.
Максимов действительно мало что понимал, но смутно догадывался, что попал в самую точку.
– Ничего, разберемся, – буркнул он, – радируем на «Новатор», врач там сам проверит.
Ярчук догнал его уже у выхода из склада.
– Послушайте, доктор Максимов, – сказал он и взял его под руку, – советую вам как старший товарищ, оставьте это дело. Тоже мне Нат Пинкертон – Нил Кручинин! Сами себе только повредите.
– Что это вы обо мне заботитесь? – сказал Алексей, освобождая руку.
– Ай-ай, какие у вас взгляды! Какие-то не наши. Все советские люди должны друг о друге заботиться, особенно мы, старшие товарищи, о молодежи. Но если не верите в мои намерения, я вам скажу другое, – он возвысил голос, – не хочу, чтобы трепали мое честное имя и пятнали репутацию, заслуженную долгим трудом.
Максимов молча открыл дверь, но Ярчук снова вцепился ему в локоть:
– Ваш товарищ, Петр Леонидович, вот он проявлял взаимопонимание. И вы, я уверен, тоже меня поймете.
Еле уловимым движением он коснулся кармана Максимова. Тот опустил руку в карман, и пальцы его нащупали плотный, гладкий сверточек. Не глядя, Алексей швырнул деньги на цементный пол и гаркнул:
– Я вам сейчас в морду дам!
Ярчук словно на пружинах прыгнул в сторону, схватил деньги и прошипел:
– Мы здесь одни. Доказательств у тебя нет, щенок, и не будет! Понятно? Пойдешь против меня – рога пообломаешь. Моря тебе не видать, разве что во сне. Пораскинь умишком!..
...Максимов вернулся в отдел, сел за стол и задумался. Ох и запутанное дело! Но, во всяком случае, страх Ярчука и его попытка дать ему взятку совершенно точно указывают, что он нашел верный след. Конечно, технически все это обставлено гораздо сложнее, чем сейчас ему представляется, но в этом уж пусть разбирается эта организация, как ее... Обэхаэс! Нужно дождаться Лидии Аполлоновны и все ей рассказать. А Столбов? Подпись не его, это точно, но взаимопонимание он проявлял. Неужели взятки брал, скотина? Ярчук – опасный тип. Что это за странная угроза? Какая может быть связь между Ярчуком и моей работой в море? Нет, надо посоветоваться с кем-нибудь из ребят, прежде чем раскручивать катушку. Может быть, действительно плюнуть? От греха подальше.
Что может случиться с этими парнями с «Новатора»? Они при надобности и мебель переварят. А он может испортить себе жизнь, лишиться того, о чем так упорно и зримо мечталось. Ярчук – тварь живучая, а доказательств нет никаких. Что же, значит, надо отступать перед ярчуками? Так и жить с ними бок о бок, врастать в коммунизм? Демагог. Это Венька правильно сказал. Как он сыпал словами: «Мы советские люди», «В какое время мы живем»! Именно этим и опасны такие типы. Шепнет кому-нибудь наверху: «Не наш человек», – и все.
...Воскресное утро застало Владьку и Алексея в зале ожидания Финляндского вокзала. Привалившись друг к другу, ребята дремали в ожидании открытия буфета. Когда буфет открылся, взяли несколько бутербродов, по стакану горячего кофе и позавтракали прямо на скамейке. Потом вокзал как-то сразу запрудила пестрая толпа лыжников.
– Слушай, Макс, а ведь мы собирались к Сашке поехать, на лыжах покататься, – сказал Карпов.
– Обязательно надо съездить, – отозвался Максимов, – думаю, что Ирина даст нам по недельке за свой счет.
– То-то обрадуется наш рыцарь!
– Кстати, мы давно не были у его стариков. Поедем сейчас?
Дверь им открыла мама Зеленина. Кухонный передник очень не вязался с ее строгим обликом.
– Мальчики! – радостно ахнула она. – Какая досада, какая досада!
– А в чем дело?
– Если бы вы пришли вчера, вы бы ее застали.
– Кого?
– Сашину жену.
– Лешка, держи меня! – завопил Карпов. – Да держи же, черт тебя подери!
– Это как же так? – пробормотал Максимов. – В порядке шутки?
– Нам не до шуток, – сказала мама. – Встает большая проблема. Саша теперь семейный человек. Возможно, будут дети. Внуки... – Лицо ее просияло.
Она провела ребят в столовую, где папа Зеленин сидел за утренним кофе.
– Здравствуйте, друзья, – сказал папа. – Как вам нравится наш мальчик? Вообразите, в один прекрасный день получаем телеграмму: «Молнируйте благословение целуем Инна Саша». Вот они, темпы двадцатого века.
– Дмитрий, согласись, что она прелесть, – сказала мама.
– Совершенно верно, – серьезно сказал папа. – А теперь взгляните сюда!
Это была районная газетка «Северная заря». На четвертой ее странице заголовок «Так поступают советские люди» был отчеркнут карандашом. Текст гласил: «Это случилось хмурой зимней ночью. Лесник Шум-озерского лесничества Курочкин схватился с медведем. Хищник нанес ему серьезные ранения. Сигнал о беде поступил в Круглогорскую участковую больницу. Немедленно на помощь вылетели на вертолете комсомольцы – выпускник Ленинградского мединститута врач Александр Зеленин и медсестра Дарья Гурьянова. Вертолет не смог приземлиться возле домика лесника. Тогда молодые люди спустились вниз по веревочной лестнице. В лесной избушке при свете керосиновой лампы они произвели сложную операцию. Но испытания на этом не кончились. Утром у раненого началось кровотечение. Нужно было провести второй этап операции, но уже в больничных условиях. Не дожидаясь прихода транспорта, Зеленин и Гурьянова погрузили лесника на санки и, утопая по грудь в снегу, тронулись в обратный путь. Так они прошли четырнадцать километров, пока не встретили больничную упряжку. Жизнь раненого была спасена. Так поступает наша советская молодежь! Так поступают комсомольцы – молодые специалисты! Вот она, героика наших будней! Вот они...» – Может быть, это смешно, – сказала мама Зеленина, – но мы с Дмитрием...
– Кто у вас болен? – спросил Зеленин, нагибаясь и расстегивая крепления.
Ответа не последовало. Он посмотрел на хозяйку, и ему показалось, что она немного смущена.
– Опять Ванюшка снегу наглотался? Я вас предупреждал, Мария Владимировна, у него очень тревожный хабитус... Или Ниночка?
– Здоровы ребята, – ответила хозяйка с явным смущением.
– Сами занедужили?
– Да нет же, Александр Дмитриевич! Да вы проходите. – И, только пропустив его вперед себя в сени, она тихо сказала: – Мужик мой приболел.
– Муж? – изумился Зеленин. – Позвольте...
Он знал, что эта полная, еще сравнительно молодая женщина – вдова. Его изумление возросло, когда он за цветастым пологом увидел Ибрагима Еналеева.
Тот лежал с закрытыми глазами, с гримасой боли на лице. Почувствовав, что на него смотрят, он вздрогнул, сел на кровати, увидел Зеленина и закричал на женщину:
– Вызвала все-таки? Почему не слушаешь, почему?
– Что с вами, Ибрагим? – спросил Зеленин.
– Животом он мучается, Александр Дмитриевич, – сказала Мария Владимировна, – а сегодня так схватило, прямо на крик.
Зеленин присел на кровать, расспросил Ибрагима, осмотрел его. После осмотра предложил лечь в больницу. Тот посмотрел на Марию Владимировну, потом снова на Зеленина:
– Живот резать будешь?
– Нет.
– Ну ладно, лягу в больницу.
…Ибрагим гулял по березовой роще, поджидая жену. Он признавался себе, что все еще смущается этих новых, неведомых для прежнего Ибрагима отношений с женщиной, стыдится перед людьми. Поэтому он и поджидал ее всегда в березовой роще возле больницы. Он топтался взад-вперед по тропинке и волновался, вспоминал, как много лет назад, в другой жизни, восемнадцатилетний юноша бродил по набережной в Баку и испытывал точно такое же волнение.
Неожиданно он увидел мужскую фигуру, приближающуюся к нему знакомой развалистой походкой. Это был Федька Бугров.
– Здорово, Ибрагим! – радостно заорал он и хлопнул его по плечу.
– Здравствуй, раз не шутишь, – осторожно ответил Ибрагим.
– Ну, как ты тут кантуешься?
– Оклемался маленько.
Федька подтолкнул его к скамейке, рукавицей смахнул снег, вытащил из кармана поллитровку, развернул газету, в которую были завернуты кусок сыра и соленые огурцы.
– За поправку, что ли, Ибрагим? Тяни!
Ибрагим отстранился:
– Ни-ни, диет соблюдаю, Федька.
– Чего-о-о?
– Диет. Ничего кушать нельзя: барашка нельзя, селедку нельзя, водку нельзя, ничего нельзя. Доктор запретил.
Федька перекосился:
– Слушай ты лепилу этого лопоухого!
– Ничего нельзя, – повторил Ибрагим и приосанился, – язва двенадцатиперстной кишки у меня.
– Во-он как! – с насмешкой протянул Федька. – Ну, как знаешь, будь здоров!
Он запрокинул голову. Заклокотала водочка. Сладостно хрустнул перекушенный пополам огурец. Ибрагим глотнул мучительную слюну и вырвал из Федькиных рук бутылку. Через пять минут они сидели обнявшись на скамейке и голосили мало кому известную песню «В кошмарном темном лесу». Ибрагим действительно опьянел, а Федька только притворился, вторил песне и хитро блестел глазами. Неожиданно они услышали голоса и смех. По тропинке со стороны озера шла парочка с лыжами на плечах. Спустя минуту они узнали доктора с женой. Инна что-то весело тараторила, а Зеленин хватался за живот, хохотал и задыхался. Он прошел бы мимо Ибрагима и Федьки, не заметив, если бы Инна не подтолкнула его. Тогда он остановился, протер очки и уставился на Ибрагима, который сидел не двигаясь.
– Та-ак, час коктейлей? – протянул Зеленин и воскликнул: – Как вам не стыдно, Ибрагим! Водка и соленые огурцы! Неплохая диета для язвенника! Я очень огорчен, но придется вас выписать за нарушение режима. А вас, – он обратился к Федьке, – я попрошу больше не появляться на территории больницы.
Он сказал это, как будто не было между ним и Федькой каких-то особых отношений, и Бугров промолчал, не трогаясь с места.
...Когда Зеленин и Инна скрылись из виду, Ибрагим вскочил и шепотом стал ругаться по-азербайджански.
– Чего всполошился-то? – процедил Федька.
– Как чего?! – горестно воскликнул Ибрагим. – Пропал мой диет, ай, пропал диет совсем! Скорей бы жена приходил! Доктора просить будем! А ты, Федор, пожалуйста, не ходи сюда. Ну тебя к черту, понимаешь!
– Эх ты, хорек вонючий! – со злостью проговорил Федька, харкнул под ноги Ибрагиму и пошел прочь.
Слабый шум долетел в поселок со Стеклянного мыса. Федор Бугров ссутулившись шел по промерзшим мосткам. Он боялся поднять голову и взглянуть вверх, туда, где плавала безжалостная луна.
Придя к себе в нетопленую пустую избу, он выругался, достал почерневшую от копоти консервную банку, высыпал в нее две пачки чая и заварил чифирь. Чифирь всегда помогал ему даже больше, чем водка. Тело наливалось силой, сердце сжималось от восторга и ярости, хотелось драться. Пусть попадется ему сейчас кто-нибудь под руку, ого! Федор ходил из угла в угол, рычал, пел, сжимал кулаки.
Неделю назад ему исполнилось двадцать три года.
...Ибрагим говорит Инне:
– Инночка, скажи, пожалуйста, доктору спасибо. Больше водку пить не будем, диет соблюдать будем, лечиться будем. Человек я семейный, ребятишки на руках. Жить будем!
Глава 10
В марте решают
...Почему это именно в марте люди любят решать вопросы? Воздух, что ли, на них действует, запах весны? В марте вздыхают и теребят листочки календаря. В марте готовятся к путине и штурмуют первый квартал. В марте подводят итоги и ждут перемен. В марте решают вопросы.
– Ну что ж, товарищ Максимов, даем вам «добро». Что скажете?
– Добро.
– Главный врач говорила, что вы хотите плавать на...
– Да, на теплоходе «Новатор», если можно.
– Понятно, это ведь ваш подопечный. Трофимов, глянь-ка, где у нас сейчас «Новатор».
– «Новатор»... «Новатор»... Так. Вот он. Снялся с Калькутты на Владивосток. Встанет там на малый ремонт.
– Ну, товарищ Максимов, оформляйтесь, получайте подъемные и счастливого плавания!
– Благодарю вас. До свидания.
Спускаясь по лестнице, Максимов вдруг закричал «Иго-го!» и сиганул вниз на площадку через пять ступенек. Кто-то шарахнулся в сторону, кто-то покрутил пальцем у виска, но Алексей, уже окончательно забыв о своем «холодном спокойствии», мчался к выходу, подмываемый желанием перейти в галоп.
На крыльце здания пароходства на него, гикая, налетел Владька.
Оказалось, что Карпов должен сесть на судно в Мурманске.
На Север поедет один из вас,
На Дальний Восток другой, —
пропел Владька и смущенно посмотрел на друга.
И Максимов, взглянув на него, неожиданно почувствовал боль. Курение вредит здоровью, это верно, но зато как часто мужчин выручают сигареты. Спички, правда, гаснут безбожно.
– Как ты думаешь, дадут нам перед отъездом по недельке за свой счет?
– К Сашке слетаем, верно?! – восклицает Карпов.
Снова вместе
...На полустанке не было платформы, и ребята, навьюченные рюкзаками, с лыжами в руках, стали прыгать вниз, как десантники из самолета. Из вагона им махали и кричали новые приятели – шахтеры из Донбасса, завербованные на Шпицберген. Тут же стояла с желтым флажком проводница. С грустью она смотрела, как выпрыгивают, даже не обернувшись, веселые попутчики. Вот так всегда.
Поезд пролязгал, простучал, сунул голову в лес, вскрикнул на прощание, вильнул хвостом и исчез. Мела пороша. Друзья огляделись по сторонам. Близ бревенчатого станционного здания сгрудилось десятка три избушек, над трубами которых трепались сизые клочья дыма. Горизонт был зубчатым: вокруг во всем великолепии стоял хвойный лес. Накатанная колея пряталась в нем.
Друзья надвинули шапки, положили лыжи на плечи и пошли к станции, скользя в своих тяжелых ботинках. С грохотом они ввалились в буфет и разбудили продавца, дремавшего за прилавком. Из-под халата у него выглядывала засаленная телогрейка, в недельной щетине слабо мерцали глазки. Буфет был засижен мухами. За стеклом стояло несколько бутылок шампанского, валялись две-три банки консервов.
– Откуда и куда, люди хорошие? – подозрительно мигнул буфетчик.
– Мы, дед, с Частой Пилы, – ответил Максимов.
– А-а... Ну, как там?
– Чего?
– С промтоварами как там у вас?
– Блеск! Вот что, дед, вскипяти-ка нам чайку и отвесь полкило колбаски. Автобус на Круглогорье когда будет?
Буфетчик объяснил, что автобус будет не раньше чем через час, постоит здесь с полчасика и потом только тронется в обратный путь.
– Шассейка у нас никудышная. А в Круглогорье, граждане, хорошо. И масло вам, и сахар! Все через нас и мимо нас к ним идет. Строительство там.
Ребята решили идти на лыжах вдоль «шассейки» до тех пор, пока их не нагонит автобус.
...Они шли уже больше трех часов, а лесу все не было конца. Торжественно нависали над лыжней ветви елей. Ели, ели... Могущественное племя в богатых зеленых шубах с белыми выпушками, а среди них, как бедные родственники, зябкие осинки и березки. Временами в лесу попадались впадины, на дне которых угадывались замерзшие ручьи. Тогда лидер Владька Карпов усиливал темп, отклонялся в сторону и начинал крутить слалом.
Алексей, который ходил на лыжах гораздо хуже Карпова, уже порядком устал от бега, от тишины и заскучал от безлюдья, когда на фоне сплошной хвои мелькнула красно-желтая табличка автобусной остановки – визитная карточка прогресса.
– Все! – сказал Максимов и воткнул палки в снег. – Пусть занесут меня метели. «А жене скажи слова прощальные». – С добрым чувством он облокотился о столб. Столб был срублен, обтесан и врыт в землю людьми. Они, наверное, галдели и дымили махоркой, когда проделывали это.
– Притомился, витязь? – спросил Карпов. – Ну, ладно, поищем жилья. Раз тут остановка, значит, должно где-нибудь быть жилье.
– Чую запах! – по-сусанински завопил Максимов и добавил деловито: – Дымком потягивает. Щами.
– Селедочкой! – простонал Карпов.
– Перцовкой! – гаркнул Максимов.
– А может, тут резиденция этого... знаешь, с рогами, с хвостиком?
– Душу заложу! – рявкнул Алексей.
Из-за поворота дороги показался грузовик с крытым кузовом. Он шел медленно, погружался в ухабы и выныривал из них, как катер в тяжелых волнах. Ребята замахали перчатками и палками. Поравнявшись с ними, водитель открыл дверцу и молча уставился.
– Вы не в Круглогорье? – спросил Максимов.
– На Стеклянный я. – По лицу водителя было видно, что в нем борется любопытство с мужской суровостью.
– Эх, жаль!
– А чего? Залазьте, подброшу.
Он вылез из кабины, потоптался в снегу и потом, когда ребята уже взгромоздились в кузов, равнодушно спросил:
– Агитпробег, что ли?
– Нет, мы врачи.
– Ага, – сказал шофер так, будто теперь для него все стало ясно, как будто он привык видеть врачей, передвигающихся попарно в лесу на лыжах.
Грузовик начал карабкаться по ухабам довольно резво. Ребята катались на каких-то мешках и стонали от смеха. Вдруг машина покатила ровно. Карпов подполз к заднему борту и увидел внизу огромный карьер, желтые отвалы песка, копошащихся людей, грузовики, бульдозеры...
Машина мчалась с бешеной скоростью и через полтора часа въехала в поселок. Остановилась. Появилось розовое лицо водителя с сигаретой в зубах.
– Станция «Вылезай», – сказал он. – Вам к Саше, что ли?
– Что?
– Ну, к доктору нашему, что ли, в больницу?
– Вы его знаете?
– Кто его не знает!
Ребята попрыгали вниз.
– Тут близко. Советую по льду срезать. В березовой роще больница.
...В этот час Зеленин выехал на лыжах на лед. Эти одинокие прогулки стали для него системой, но каждый раз, скатываясь с берега, он испытывал острую тоску. Прошло уже больше месяца после отъезда Инны, а он все еще не мог примириться со своим одиночеством. Теперь все: квартира, книги, клуб, лыжи – напоминало ему о жене, словно он прожил с ней большую жизнь. Работал он в это время как-то механически, с друзьями встречался редко и больше старался остаться один, для того чтобы вспомнить еще какое-то слово, какой-то жест, какой-то взгляд. Опять пошли письма и телефонные разговоры, эти жалкие суррогаты близости. Он похудел, беспрерывно курил, подолгу сидел в тишине, мечтал, вспоминал.
Вот и сейчас, скользя по накатанной лыжне, он смотрел себе под ноги, а видел желтые Иннины лыжи с черной каймой. Он остановился, снял шапку и подставил лицо ветру.
Двое людей с лыжами на плечах двигались по льду вдоль берега. Зеленин стоял в тени, а эти двое шли по кромке золотого сияния и отбрасывали длинные тени. Это молодые люди: они идут легко. Это веселые люди: один хлопнул другого по спине, тот на мгновение присел, будто корчась от смеха. Это не местные люди: слишком «мастерский» у них вид (узкие брюки, кепки с длинными козырьками, канадки). Это... Зеленин испустил вопль, подбросил высоко вверх малахай, не поймал его и помчался вперед.
...Карпов встал, поправил воображаемый галстук, одернул воображаемый фрак, щелчком сбил с плеча пылинку и произнес спич:
– Дорогие сэры! Ты, высокочтимый наш хозяин Александр Круглогорский, и ты, Алеша Попович, солнце Частой Пилы и гроза амбарных вредителей, и я, ваш скромный слуга, благороднейший из благородных, храбрейший из храбрых, именуемый в народе Владиславом Безупречным! Заткнись, Леха! Сейчас я предлагаю вам проявить самопожертвование и героизм и отвлечь свои алчные взоры от этого исторического стола, заваленного окороками, омарами и кильками, заставленного бургундским и кахетинским. Я предлагаю вам, сэры, устремить свои взгляды в прошлое, а равно и в будущее, дабы... Дашь ты договорить, плебей, или нет?
– Заткни фонтан! – угрожающе проворчал Максимов.
– Ребята, выпьем за дружбу, – тихо сказал Зеленин и встал.
– Виват! – закричали все разом, и каждый подумал, как хорошо, что Сашка снова пришел на выручку и без дымовой завесы шутовства сказал то, о чем думал каждый.
…Послышался голос Карпова:
– Эй, жалкие бюргеры! – Он вошел и бесцеремонно зажег спичку. – Бюргеры! Улеглись в такую ночь!
– Что ты предлагаешь? – деловито спросил Максимов.
– Я предлагаю легкой кавалькадой промчаться по окрестным весям и спеть серенаду Снежной Королеве. А потом рыбку в проруби половить.
– Дельная мысль! – воскликнул Алексей и начал одеваться.
Ночь была сказочной, густо намалеванной чуть подсиненными белилами на черном фоне. Она ударила им в глаза, когда они выбежали на крыльцо, и потянула за ноги в свою глубину. Спустя минуту глаза привыкли и различили абстрактный орнамент лунного света на снегу, мелкую россыпь звезд, контуры домов. Максимов втянул носом воздух, почувствовал необъяснимый, таинственный запах весны. Он ощутил глубину ночи и необъятность Земли, близость весны, близость любви и дальней дороги, ощутил свою молодость и силу.
Коллеги
Утром, в одиннадцать часов, когда они сидели за завтраком, зашел Зеленин. Он поднялся, как обычно, в семь часов и уже закончил обход больных.
– Привет, – сказал он. – Что собираетесь делать?
– Как что? Поедем кататься.
– Завидую! А мне на прием идти.
– Ну-ну, – буркнул невыспавшийся Карпов.
Саша смущенно потоптался, кашлянул и вздохнул.
– Очень интересные есть у меня больные, – промямлил он.
– Владя, передай-ка мне масло, – сказал Алексей.
– Такие сложные больные, вы себе не представляете!
– Что это там, шпроты? Давай сюда!
– Уверен, что любой стоящий врач заинтересовался бы этими больными.
– Шпрот, товарищи, любит, чтобы его ели с маслом.
– Вот, например, Иван Климаков. Очень странный анализ мочи, а клиники почти никакой.
– Налей-ка мне чаю, Владя, только покрепче.
– Очень странная моча, – безнадежно вздохнул Саша.
– Слушай, хозяин! – возмущенно сказал Карпов. – Может быть, теперь, к чаю, скажешь несколько слов про дизентерию?
– Чего ты хочешь, рыцарь? Говори прямо, – сказал Алексей.
– Я думал, – нерешительно протянул Саша и вдруг, будто набравшись храбрости, зачастил: – Может быть, посмотрим больных вместе, а, ребята? Так сказать, консультация столичных специалистов. Ты, Леша, как эндокринолог, ты же делал успехи в этой области, а Владик как высококвалифицированный хирург и уролог.
– Как вам нравится эта наглость?! – воскликнул Карпов. – «Леша», «Владик» – тон-то какой! Я расцениваю это как попытку зверской эксплуатации заезжих туристов.
– Это не совсем так, друзья, – протянул обескураженный Зеленин.
– А по-моему, это забавно, – проговорил Максимов.
– Конечно, – обрадовался Саша, – это же страшно весело! Значит, договорились?
– Как с оплатой? – подмигивая Алексею, спросил Владька.
Саша растерянно заморгал.
– Оплата? Конечно, оплатим. Я не подумал об этом. – И, поняв шутку, в тон Владьке ответил: – Что-нибудь придумаем, проведем по безлюдному фонду.
Владька захохотал:
– Люблю я этого дурака Сашку Зеленина.
По поселку были разосланы сестры и санитарки собирать больных. Вскоре в амбулатории образовалась небольшая очередь «сложных случаев». По дороге ребята еще немного поворчали что-то насчет «пауков, таящихся в глуши и затягивающих в свои сети...», но, придя в амбулаторию и увидев больных, стали серьезными. Тут дело уже было нешуточным – медицина есть медицина. Они разобрали халаты и уселись за столы. Карпов некоторое время ошарашенно смотрел на Дашу, но потом вздохнул и взялся за истории болезней. Максимов лихорадочно перебирал в уме свои познания по эндокринологии. Во время работы в порту он меньше всего думал об этом.
Зеленин был счастлив. Он называл друзей по имени-отчеству, обстоятельно докладывал о больных, высказывал свои суждения и почтительно замирал, когда Владька или Алексей начинали обследование. Потом пришло увлечение. О каждом больном спорили до хрипоты. Многое прояснялось для Зеленина. Ум хорошо, а три – лучше.
Всех сложных больных из поселка они разобрали в тот же день. Зеленин наметил дальнейшую программу: втроем они обойдут на лыжах окрестные колхозы, лесные командировки и строительства.
– Мы будем сочетать приятное с полезным, – сказал он.
– Диагностические набеги, – засмеялся Максимов.
На третий день после приезда в Круглогорье они возвращались с дальнего Гим-озера. Они шли по своей же лыжне и потому развили хорошую скорость. Карпов, как всегда, возглавлял, остальные двигались за ним в одном темпе, в точности повторяя взмахи его рук и стремительный шаг. В лесной тишине слышалось только поскрипывание лыж, креплений и дыхание людей. Все чаще в стене леса мелькали голубые прорези, и вот лыжники вынеслись на голый крутой холм, под которым в зябком свете ежилось Круглогорье. Огромное снежное пространство окружало поселок – крохотный пятачок.
…Вечером они сидели в столовой. Алексей и Сашка играли в шахматы. Владька, сидя на полу возле печки, настраивал гитару и бурчал что-то себе под нос.
– Давайте хоть в кино сходим, – сказал он.
– Сегодня в клубе танцы, – пробормотал Зеленин. – Это то, что осталось, и то, что уходит, цепляясь и брызгая слюной.
Максимов кивнул. Он именно на такой ответ и рассчитывал.
– Мы люди социализма... – начал Зеленин, но в это время послышался стук в дверь, и вошла Даша.
– Александр Дмитриевич, с брандвахты прибежали... Да, кажется, начались...
Зеленин сразу же стал задергивать «молнию» на куртке.
– Ах, черт, – пробормотал он. – Ах, черт, надо бежать!
– Куда?
– Да на брандвахту, нелегкая ее возьми! Роды начались у одного матроса. Что ты ржешь? Ну, женщина-матрос. Поперечное положение плода. Понимаете?
– А почему же ты ее в больницу не положил? – спросил Карпов.
– Отказалась. Муж не пустил, дубина этакая!
Он вышел вместе с Дашей, зашел в больницу за сумкой и договорился с сестрой, что она тоже придет на брандвахту, как только закончит раздачу лекарств и процедуры. Нахлобучил ушанку, перекинул сумку через плечо и вышел во двор. На земле уже лежали сумерки, а небо разливалось томительной зеленью. Над головой первая звезда словно шевелилась от легкого морозного ветерка. Зеленин на миг задержался, посмотрел в небо и почему-то вспомнил блоковский город, охваченный тревожным ожиданием таинственных кораблей. Он вздохнул и увидел, что на крыльце флигеля, широко расставив ноги, стоит Максимов.
– Ты что, Макс?
– Сашка, хочешь, я с тобой пойду?
– Думаешь, я сам не справлюсь?
– На всякий случай, а? И веселее будет...
– Спасибо, Лешка, ты лучше отдохни: завтра марш-бросок на Журавлиные.
– Давай-ка пойдем вдвоем, Саша, знаешь...
– А, перестань! – махнул рукой Зеленин и потрусил к воротам.
Максимов вернулся в столовую. Владька сидел на тахте, покуривал.
– Дней через десять, – сказал Алексей, – мы будем уже далеко друг от друга.
Он подошел к приемнику, включил его, пошарив на длинных волнах, нашел Москву. Звуки большого зала вошли в комнату. Отчетливо слышалось покашливание и хлопанье стульев.
– Начинаем заключительный концерт фестивального конкурса. Выступают участники студенческой самодеятельности города Москвы...
Пауза.
– Студентка Московского университета Инна Зеленина исполняет ноктюрн Шопена.
Максимов ахнул, Карпов вскочил.
– А Сашка-то, Сашка... Проклятие!
– Тише!
Удар ножа
Зеленин подходил к пристани. Безлюдная, преображенная толстыми сугробами, она была печальна. Метрах в пятидесяти от берега темнели тела барж, находившихся во льдах на зимнем отстое. Он решил пойти кратчайшим путем, мимо складов, выбраться на озеро и по протоптанной на льду тропинке добраться до брандвахты.
Вокруг стояла настолько плотная тишина, что казалось, уши заложены ватными тампонами. Чтобы рассеять это ощущение, Зеленин начал прислушиваться к скрипу снега под ногами и неожиданно различил посторонний звук. Это был храп. Сторож Луконя сидел, завернувшись в свой могучий тулуп, возле стены одного из складских зданий. Голова его бессильно свисала набок. Открытый рот чернел среди серой бороденки, как нора.
– Опять поднабрался, – подумал вслух Зеленин. Он хотел разбудить Луконю, но, решив, что тот все равно сразу же заснет, прошел мимо и свернул за угол. И тут он снова услышал звук – вороватый стук железа по железу. Это был звук активной преступной жизни. Звук трусливый и в то же время угрожающий – не подходи! Зеленин ускорил шаги и увидел у дверей склада две копошившиеся фигуры. В желтом пятне фонарика – огромный висячий замок.
«Я иду на вызов, меня ждет роженица», – подумал он, вздрогнул, почувствовав свое одиночество, и гаркнул:
– Стой!
Темные фигуры бросились в разные стороны. Одна юркнула за угол склада, другая метнулась к озеру и скатилась под обрыв. Не отдавая себе отчета в происходящем, Зеленин побежал за этим вторым. Гнаться было трудно: ноги увязали в снегу. А тот уже выбирался на голый лед.
«Все равно уйдет, – подумал Зеленин. – Лучше пойду на брандвахту, а оттуда пошлю кого-нибудь в милицию».
Но в это время фигура впереди остановилась, обернулась. Лунный свет сделал ее рельефной. Александр узнал четырехугольные плечи и бычий наклон Федьки Бугрова. Федька всмотрелся, потом чиркнул спичкой, закурил и спокойно пошел на Зеленина.
«Поперечное положение – дело не шуточное. Надо повернуться и бежать на брандвахту. Не мое дело – бандитов ловить».
Зеленин зачем-то дрожащими пальцами туже затянул шарф, глубоко, до самых последних бронхов, вдохнул в себя морозный воздух и пошел навстречу Федьке.
– Стойте, Бугров! – сказал он, когда они сблизились. – Сейчас я вас передам сторожу.
– Да ну? – буркнул Федор и вздохнул. – Ничего не поделаешь, придется подчиниться.
Он сделал еще шаг к Зеленину, дохнул сивушно-табачным перегаром и с размаху ударил его по виску. Подбежал, ткнул упавшего сапогом в лицо и отскочил. Зеленин беспомощно ворочался на снегу. В глазах его колыхался красный туман. Откуда-то сверху, с края пропасти, донесся до него голос:
– Это тебе, вонючка, за польки-кадрили. А сейчас вставай и беги. Нашепчешь кому-нибудь – задавлю, как клопа.
Зеленин встал. Пошел на Федьку. Тот сделал шаг назад, взвизгнул:
– Уйди! Уйди от греха!
– Врешь, негодяй! – прошептал Саша.
Ударил Бугрова в лицо. И сразу же они одним бешеным, хрипящим клубком покатились по снегу. Улучив момент, Федька ногой отбросил Сашу от себя. Оба вскочили.
– Беги! – завопил Федька.
Александр снова, вытянув руки, как пьяный, пошел на него. Федька пригнулся к голенищу и метнулся вперед с финкой в правой руке.
Зеленин немо открыл рот, схватился за живот и в последний миг перед падением вытянулся, как струна. Из глубины его тела поднималось и закрывало все огромное красное облако. Прошла в мозгу медленная мысль: «Атомная бомба, что ли?» Зеленин упал. Красный дым клубился, конденсировался, ходил волнами. И вдруг появились и с бешеной скоростью полетели вниз фотоснимки, множество фотоснимков: Инна, мама, отец, друзья. Он пытался поймать хоть один из них, но тут схлынули красные волны. Появилось темно-синее небо. Звезды шевелятся. Тропики? Море, белые пляжи, пальмы... Сухуми, что ли? Радио... Да, громкоговорители на набережной. Трансляция концерта. Виолончель. Кого это она оплакивает? Уж не его ли? Уж не его ли самого, не его ли молодость, не его ли прощание с землей?
Потом небо почернело, стремительно снизилось и прихлопнуло его.
...Луконя так и не понял, отчего он проснулся. Зевнул. Прошелся вдоль склада, обогнул его. Высморкался на снег, посмотрел на озеро. Там, на льду, баловали два подгулявших парня. Луконя заинтересовался.
– Ишь ты, ишь ты! – пробормотал он.
Один из парней упал. Другой склонился над ним, потормошил и вдруг бросился прочь. Он понесся большими прыжками. Падал, полз и снова бежал. А второй лежал неподвижно.
– Ну и дела! – закричал Луконя, снял с плеча ружье и скатился вниз.
Глава 11
Убили Сашу!
Ночь хороша светом далеких окон. Человек может в одиночку бороться за свою жизнь, но он должен знать, что в глубокой ночи далекие теплые окна ждут его. Иначе зачем бороться? И, погибая ночью, хрипя и выплевывая кровавый снег, человек посылает последнюю искру гаснущего сознания к светящимся окнам, к окнам матери, брата, любимой, к окнам друзей, к теплым окнам всего мира.
В тот час, когда Зеленин дрался с Федькой, его друзья продолжали слушать радио.
Они сидели и горланили, перебирали студенческие песни, старинные и новейшие, когда вдруг захлопали одна за другой все двери. В клубе морозного пара в комнату вбежала Даша Гурьянова.
– Александра Дмитриевича!.. – крикнула она и остановилась. В исступлении закрыла рот руками, качнулась и осела на пол.
Карпов сразу же перемахнул через стол. Максимов тоже подбежал к девушке.
Даша открыла глаза и прошептала:
– Убили Сашу...
...Ни на одном кроссе они не бегали быстрее. Они бежали молча, охваченные злобой и надеждой. Узнать как можно скорее, что эта нелепая весть – брехня! Что Сашка жив и здоров или хотя бы ранен, но только не мертв! Только не мертв! Они бежали, даже не замечая того, что темные улицы поселка пришли в движение, что тут и там двигались люди, прыгали дымные круги ручных фонариков.
Возле складов глухо шумела толпа. Друзья врезались в нее с налета. Тело Зеленина лежало на куче тулупов и телогреек. Тело? А не труп ли? Заострившееся белое лицо с громадным кровоподтеком, с рваной раной на правой щеке, тупо, безжизненно открытый рот.
– Готов доктор, – тихо сказал кто-то вблизи.
– Сашка! – закричал Карпов, упал на колени и, схватив руку Зеленина, стал искать пульс.
– Спокойно! – гаркнул Максимов. – Куда он его пырнул? В голову?
– В живот, – ответили из толпы.
Кто-то посветил фонариком. Максимов увидел залитую кровью прореху на зеленинском пальто. Мелькнула мысль: «Если бы на нем была моя канадка, может быть, ничего страшного не случилось бы». Алексей встал на колени, расстегнул пальто, куртку и осмотрел рану. Владька сидел на снегу и рыдал.
– Это невозможно, это невозможно! – повторял он.
– Есть пульс? – резко спросил его Максимов. Владька отрицательно покачал головой.
Максимов сам взял руку Зеленина.
– Кажется, есть пульс.
«Какого дьявола Владька закатывает истерику в такой момент? Тоже мне хирург! Но если кто сейчас и сможет что-нибудь сделать, это Владька. Если возьмет себя в руки. Он хороший хирург». Максимов помнит тот день, когда Владьке, единственному из студентов, поручили делать струмэктомию. Круглов тогда сказал, что такие руки, как у Карпова...
«Удивительно, как это мысли разбегаются в такой момент», – подумал Алексей, взял пригоршню снега и вытер лицо. Потом встряхнул Владьку и спросил:
– Диагноз?
Карпов тоже провел рукой по лицу, голосом автомата ответил:
– Проникающее ранение брюшной полости. Должно быть, ранен желудок, вероятно, задета артерия декстра...
– Будем оперировать, – жестко сказал Максимов. Владька вздрогнул:
– Сами? С ума сошел!
– Артерия не задета. Понял? Перестань хныкать: оперировать придется тебе. Подвода есть? – крикнул он. – Ну-ка, мужики, дайте дорогу.
– Есть надежда-то? – хрипло спросили из толпы.
– Да! – яростно воскликнул Максимов.
– Да, – прошептал Карпов.
Филимон бешено настегивал конягу. Бежавшие рядом люди на скользких местах тянули ее за уздцы, толкали сани.
«Куда, к черту, подевались все машины?» – подумал Алексей.
В это время из темноты выступили контуры трех автомобилей. Вокруг них возбужденно махали руками люди. Слышались короткие возгласы:
– В севастьяновской баньке сидит!
– Ружье у него!
– Откуда?
– У Лукони двустволку отнял.
– Возьмем бандюгу!
Неожиданно все три автомобиля зажгли фары. Лучи вырвали из мрака головы, шапки, погоны милиционеров, фосфорическими полосами легли на снег и уперлись в крохотную, кособокую избенку. Толпа начала растекаться цепью.
Максимов вдруг толкнул Владьку:
– Езжайте дальше. Я догоню вас на машине.
– Куда ты?! – ахнул Карпов, но Алексей уже мчался прочь. Он пробежал мимо какого-то инвалида, подбежал к цепи и пошел рядом с другими, с трудом вытаскивая ноги из глубокого снега.
– Сашка-то, а? – сказал ему, сдерживая рыдания, кто-то справа.
Алексей покосился. Лицо идущего рядом парня показалось ему знакомым.
Цепь смыкалась вокруг баньки. Оставалось не больше сотни метров. Неожиданно оттуда бухнул выстрел, и в наступившей после этого тишине резко скрипнули петли двери. Максимов увидел, что из баньки боком выбирается высокая фигура с ружьем в руках. Вот он! Тот, кто оборвал Сашкину жизнь, одним движением руки перерезал глотку его мечтам, чудачествам, планам. Вот, значит, он! Убивший огромный Сашкин мир, искалечивший Инну, смертельно ранивший стариков Зелениных, заставивший плакать по-бабьи Владьку, поднявший на ноги весь поселок! Вот, значит, эта гадина!
Алексей ринулся вперед, сразу обогнал цепь.
«Я его сейчас прикончу, задушу, раздроблю голову! Растопчу эту мразь! Никому не позволю – сам! Боже мой, а Сашке-то от этого будет легче? Легче!»
Он подбежал к Федьке. Тот стоял, качаясь и тихо, натужно рыча. Обеими руками он держал перед собой двустволку, но не как оружие, а скорее как балансир. Лицо его надвинулось на Алексея. Щеки дрожат, глаза моргают, под носом смерзшиеся сопли. Жалкая гадина... Такому мстить? Убить – еще не значит отомстить.
Максимов вырвал ружье, отбросил в сторону, тремя ударами, словно тренируясь на боксерской груше, свалил Федьку себе под ноги и сам в истерике покатился по снегу.
Замелькали над головой ноги. Цепь сомкнулась вокруг Федьки и Алексея.
– Посчитаем ему, ребята, за доктора нашего! – крикнул кто-то.
Кулаки рабочих, грузчиков, лесорубов поднялись над убийцей.
– Стойте! – раздался голос. – Перестань, Ибрагим! Его будут судить.
– Чего там судить!
– Еще не известно, дадут ли высшую!
– Не слушайте Самсоныча, мужики!
– Бей!
– Я не хотел! – закричал Федька, словно очнувшись. – Не хотел убивать!
– Бей его!
Но в круг уже протолкнулся Егоров с милиционерами.
– Спокойно! – закричал Егоров. – Судей вы сами выбирали или нет?
Федьку увели. Ушла, возбужденно галдя, толпа. Максимов растерянно встал на вытоптанном снегу. Он уже начал приходить в себя.
«Молчи! – диктовал он себе. – Лучше скрипи зубами, но не хнычь. Молчи, не говори ни слова. Вытри снегом лицо. Иди. Давай пошевеливайся!»
Возле машины стояли трое, видимо, ждали его. Тот парень со знакомым лицом, и инвалид, тоже до странности знакомый, и какой-то верзила.
– Послушайте, – взволнованно сказал инвалид, – говорят, есть какая-то надежда?
– А мы думали все, крышка! – пробасил верзила. – Шли с Борисом из клуба, вдруг бегут, кричат: «Убили Сашу!»
– Может быть, останется жив? – спросил знакомый парень.
– Быстрее в больницу! – прошептал Максимов и полез в машину.
Ему было стыдно оттого, что он потерял надежду и поддался злобе и отчаянию. Может быть, действительно удастся раздуть огонек жизни, который еще теплится в Сашке? Сколько времени он пролежал на снегу? Ведь он был, в сущности, очень здоровым парнем. Был? Нет, Сашка есть, Сашка будет! Мы еще поборемся.
Настоящие ребята
Гордость Зеленина – роскошная бестеневая лампа, вырванная с таким трудом у снабженцев райздравотдела, – освещала операционное поле ярким ровным светом. Такая аппаратура обычно вселяет уверенность в могущество медицины. Карпов уже стоял возле стола, держа на весу руки, прямой и строгий. Макар Иванович налаживал систему для переливания крови. Даша лишний раз пересчитывала инструменты. Вошел Максимов и занял свое место напротив Карпова.
– Макар Иванович, у вас все в порядке?
– Да.
– Начнем, Макс?
– Давай.
На секунду все четверо подняли головы и обменялись взглядами. На секунду дрогнули лица со сжатыми губами и снова превратились в бесстрастные маски. Каждый словно принял переброшенный от одного к другому канат и намертво закрепил его. Теперь они почувствовали себя альпинистами в одной связке.
Карпов сделал разрез. Брюшная полость была заполнена кровью. Оказалось, что лезвие ножа пересекло веточку крупной артерии и пробило желудок. Карпов взглянул на Максимова:
– Понимаешь?
Максимов молча кивнул.
– Что там? – спросил Макар Иванович. И Даша подалась вперед, напряженная и суровая.
– В двух сантиметрах прошел от артерии декстра, – сказал Карпов. – Лигатуру!
«Может быть, как раз то, что он лежал на снегу, и спасло его, – подумал Максимов, – от холода сжались сосуды... Спасло? Неужели спасен? Неужели мы вытянем Сашку? Держись, рыцарь! Тебя еще нет, ты еще отсутствуешь, но твое тело живет, вокруг него друзья, и ты будешь снова! Спокойно, Владька уже начал ушивать желудок!»
Максимов смотрел на ловкие длинные пальцы – совершеннейший аппарат, – копошащиеся в ране, ловил каждое их движение. Вот он, Владька Карпов, – хирург, спасающий друга! Вот и он – настоящий Алексей Максимов. Вот мы, врачи, – настоящие ребята!
Вдруг Макар Иванович выпрямился, бросился к Сашкиной голове, что-то сделал там.
– Пульса нет, – сказал он. – Зрачки не реагируют.
Кровь прилила Алексею в голову, помутилось в глазах. Он увидел, как задрожали Владькины пальцы, державшие иглу. Он поднял голову и уставился Владьке в глаза. И тот тоже посмотрел на него. Они не двигались.
– Неужели все кончено? – спросила Даша.
Этот вопрос словно вывел их из оцепенения. Максимов сказал:
– Адреналин в сердце. Ты когда-нибудь делал это?
– Нет, – ответил Карпов, – представь себе, не приходилось.
– Мне тоже. Сделаешь?
– Технически это не сложно, но... руки... Сделай лучше ты!
Максимов взял шприц с иглой, нащупал четвертое межреберье. Думал ли он когда-нибудь, что будет прокалывать сердце Сашки Зеленина для того, чтобы вернуть его к жизни? Он проколол сердце и ввел адреналин.
– Появился пульс, – шепнул старик.
Стали ждать.
– Пульс становится лучшего наполнения, – подавляя возбуждение, сказал старик.
– Введите теперь под кожу.
– Есть!
Движения всех четверых стали еще более четкими. Внезапно забеспокоилась Даша. Несколько раз она тревожно посмотрела на лампу.
– Макар Иванович, который час?
– Без четверти двенадцать.
– Ой!
– Что такое?
– После двенадцати у нас электричество горит вполнакала.
Карпов озадаченно взглянул на нее. Работы было еще по меньшей мере на полчаса.
– Ничего, зажжем керосиновые лампы, – сказал старик.
Но и после двенадцати свет продолжал гореть ярко. Люди, для которых сейчас весь мир замкнулся в операционной, не знали, что вокруг ходит, смотрит с надеждой внешний мир. Поселок не спит. Темные фигурки собираются кучками, смотрят туда, где за березами светится цепочка больничных окон.
У крыльца больницы дежурит автомобиль. Мотор периодически прогревается. В дежурке у телефона курит Егоров. На подстанции прогуливается Тимофей, зверски поглядывая на обслуживающий персонал. Звонят со Стеклянного мыса – не надо ли чего? Звонят из районной больницы – выехал главный врач. Звонят с лесозавода, с соседнего аэродрома... Идут в темноте лыжники, трусят лошадки, рычат, карабкаясь по ухабам, грузовики. Взбаламучена вся мартовская ночь.
– Все! – сказал Карпов, отошел от стола и посмотрел на лицо Зеленина. Оно по-прежнему было бледным, как матовое стекло, но какие-то еле уловимые приметы говорили, что это уже лицо не трупа, а просто тяжело больного человека.
Они гуськом вышли из предоперационной и прошли в дежурку. Тяжело стукнул костылем Егоров, вскочил Борис. Они не сказали ни слова, но глаза их кричали громче всех голосов. Теперь Максимов узнал Бориса. Улыбнулся ему:
– Подумай, как будешь ставить Сашке блок. Это не так-то просто.
– Ну?! – воскликнул вместе с Борисом и Егоров.
Врачи молча, со странными улыбками сели. Пустили по кругу пачку сигарет. Закурили, стараясь не глядеть друг на друга. Поняли и замолчали Борис и Егоров. Трудно сказать что-нибудь связное после того, что произошло этой ночью. Максимову даже казалось, что усталость, сразу навалившаяся ему на плечи, вызвана тем, что он сказал несколько ободряющих слов знакомому волейболисту. Ободряя другого, ты сам надеешься. А что все-таки ждет их завтра утром? Так или иначе, они прошли сквозь ночь. Сегодня они впервые побывали там, на рубеже жизни и смерти. Вели там бой и вернулись усталые, опустошенные и в то же время наполненные чем-то новым. Теперь Сашка должен бороться сам. Они все рядом, все настороже, но он должен и сам побарахтаться. Почему они молчат? От усталости? Нет, в них должно перебродить первое ошеломление от величайшего в их жизни события. Эта ночь не забудется никогда. Они прошли ее насквозь и нашли самих себя. Наконец-то все стало ясным. Спасая друга, они поняли свое назначение на земле. Они – врачи! Они будут стоять и двигаться в разных местах земного шара, куда они попадут, с главной и единственной целью – отбивать атаки болезней и смерти от людей, от веселых, беспокойных, мудрых, сплоченных в одну семью существ. Все остальное второстепенно. Они – врачи! Год назад им сказали об этом, но они все еще воображали себя просто молодыми парнями.
– Где это я вас видел? – прищурился на Егорова Максимов. Тот хлопнул его по спине и улыбнулся:
– Завтра я вам напомню. Сейчас нужно отдыхать.
Все еще впереди
Морозный, дымный рассвет смотрел в окна. Максимов, сгорбившись, сидел у кровати Зеленина и смотрел на его лицо. Казалось, оно порозовело. Или это только отсвет восхода? Во всяком случае, дыхание ровное, пульс 64, давление 100 и 60. «Наши шансы растут, а? Сашка, ты молодец! Мы еще с тобой пофилософствуем, побродим еще по Петроградской стороне! Поиграем в волейбол, поплаваем вместе. Посмеемся и погрустим, сходим не раз в кино. Встретимся через три года или гораздо раньше. Будем писать друг другу письма и посылать фотокарточки. Все еще у нас впереди...»
Максимов встал и подошел к окну. Морозные узоры кустиками поднимались вверх по стеклу, но закрывали только нижнюю его половину. Был виден далекий берег озера, над которым висело солнце. На льду перемешались розовые и голубые тени. Скоро начнет таять. Придет весна, похожая на сотни других весен, но все-таки чем-то отличающаяся. Это закон, постоянный круг. Раньше, в прошлые годы, века, жили Максимовы и Зеленины, похожие на них, теперешних, но все-таки другие. Сейчас живут они.
А после них будут другие, похожие на них, но другие. И нужно, чтобы те, новые, временами вспоминали о них. Тогда... тогда не будет страшно. Надо все делать для того, чтобы нас вспоминали. Не персонально Максимова, а всех нас. Сашка прав: нужно чувствовать свою связь с прошедшим и будущим. Именно в этом высокая роль человека. А иначе жизнь станет зловещей трагедией или никчемным фарсом. Не нужно бояться высоких слов. Мы смотрим ясно на вещи. Мы очистим эти слова. Сейчас это главное: бороться за чистоту своих слов, своих глаз и душ. А на старье – в облаву!
Максимов вспомнил кособокую избушку, освещенную фарами автомобилей, ссутулившуюся фигуру убийцы и цепь, окружающую его. Вот они, рабочие, грузчики, лесорубы, шоферы, милиционеры, идущие в атаку на старый мир! На мир, где в дело пускались ножи, где жизнь не стоила и копейки, где людей сжигали мрачные страсти. Мы идем, мы все в атаке. Мы держимся рассыпанной по всему миру цепью. Мы атакуем не только то, что вне нас, но и то, что у нас внутри поднимается временами. Уныние, неверие, цинизм – это тоже оттуда, из того мира. Это еще живет в нас, и временами может показаться, что только это и живет в нас. Нет. Потому мы и новые люди, что боремся с этим, и побеждаем, и находим свое место в рассыпанной цепи. Максимов повернулся и увидел, что в дверях стоят Владька и Даша и еще какие-то люди.
– Иди спать, Макс, – сказал Владька, – мы тебя сменим.
Алексей встал в ногах у Зеленина и посмотрел на его лицо.
И вдруг он увидел, что Сашка смотрит на него.
– Лешка, – сказал Зеленин, – ну что там со мной?
Максимов вцепился в спинку кровати и сказал хрипло:
– Пустяки. Ты жив.
Подошли Владька и Даша. Зеленин повел взглядом и улыбнулся:
– О, да вы все здесь! Привет, ребята!
– Привет! – сказал Владька.
– Саша! – сказала девушка.
– А как на брандвахте?
– Не волнуйся, Макар Иванович успел принять роды.
Зеленин кивнул, закрыл глаза и снова открыл их.
– Вы, конечно, не слушали концерт из Москвы? Там Инна...
– Слушали, – сказал Владька. – Да перестань ты болтать! Нельзя!
– Я хотел вам сделать сюрприз, – продолжал Зеленин, – а сам так и не услышал.
– Можно послать заявку на радио, – сказал Максимов, – пусть прокрутят пленку. Наверняка они записали.
– Конечно, записали такую игру! – проговорил Владька.
– Правильно! Так и сделаем, – прошептал Зеленин и закрыл глаза.
– Заявку от моряков из Тихого океана, – сказал Максимов.
– И с Баренцева моря, – сказал Карпов.
– И от жителей Круглогорья, – вставила Даша.
– И от рабочих Стеклянного мыса, – пробасил стоящий в дверях Тимоша.
1959
Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников ![]() Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов
Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит
Бесплатные доработки и консультации
Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки
Гарантируем возврат
Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа
Техподдержка 7 дней в неделю
Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему
Строгий отбор экспертов
К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»
Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован ![]()









































Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн ![]()
1 задание по вариант10
Контрольная, Нормативно-правовые основы проектирования систем электроснабжения
Срок сдачи к 15 мар.
Анализ эффективности бизнес - планирования на примере конкретной отрасли (например, розничная торговля, производство и т.д.)
Курсовая, Бизнес-планирование
Срок сдачи к 20 мар.
Развитие зрительной памяти у детей старшего дошкольного возраста средствами дидактических игр
Диплом, Специальная психология
Срок сдачи к 21 мар.
Эссе по фильму «Суфражистка» (Великобритания, 2015)
Эссе, Гендерное измерение истории, история
Срок сдачи к 14 мар.
Выполнить реферат на тему "Управление затратами организации" и ответить на вопросы.
Реферат, Управление затратами сварочного производства
Срок сдачи к 23 мар.
Написать курсовую 30-40 страниц
Курсовая, Документационное обеспечение работы с персоналом
Срок сдачи к 10 апр.
Сделать отчет по практике
Отчет по практике, Ревьюирование программных модулей, программирование
Срок сдачи к 22 мар.
Разработка специализированных хлебобулочных изделий
Контрольная, Технология специализированных пищевых продуктов, кулинария
Срок сдачи к 29 мар.
Организация производства и модернизации технологического процесса приготовления сложных горячих блюд в столовой на 300 посадочных мест
Диплом, МДК, кулинария поварское и кондитерское дело
Срок сдачи к 16 мар.
Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!